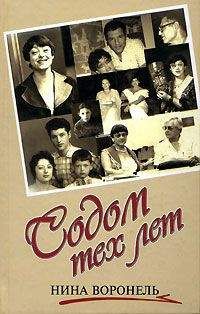Я была не только бедная, я принадлежала к другому классу, к классу выскочек – мое будущее тонуло в тумане неизвестности, и чтобы туман этот рассеять, я должна была безо всяких гарантий неустанно рыть носом землю. А Ирочкино будущее было начертано на стене золотыми буквами – институт, аспирантура, уютное место редактора в хорошем издательстве, – и для достижения его ей не надо было делать никаких усилий. Кто мог тогда предвидеть, что злодейка-судьба распорядится иначе?
Накануне смерти классика Ирочкина судьба складывалась даже лучше, чем это было запланировано золотыми буквами на стене – у нее появился жених-француз, молодой аспирант, изучавший творчество Пастернака, Жорж Нива. Очень симпатичный интеллигентный молодой профессор – мне после приходилось не раз встречать его на эмигрантских российских тусовках, организованных Максимовым, когда в Милане, когда в Париже. А тогда он был хорошенький французский юноша, очень влюбленный и в классика, и в Ирочку, – и то, и другое было мне вполне понятно. Свадьба была назначена на конец лета, так как Жоржу нужно было преодолеть какие-то формальные препятствия, связанные с тем, что у него кончалась виза.
И вдруг уютный Ирочкин мир рухнул, как будто никогда и не существовал, – Пастернак неожиданно серьезно заболел и почти скоропостижно скончался. Всю неделю его болезни Ирочка приходила на занятия заплаканная, и, наконец, сообщила нам о его смерти, добавив, что похороны состоятся завтра в Переделкино в пять вечера. Мне это сообщение почему-то показалось страшно интимным, неким нашим с Ирочкой секретом – ведь почти никто, кроме меня и еще пары соучеников, не был с нею знаком, а значит, никто не мог знать ни о смерти классика, ни о завтрашних похоронах.
Потрясенная внезапной смертью своего поэтического избранника, я решила поехать на похороны, немного смущаясь тем, что никто меня туда не приглашал. Я представляла себе, как я одна-одинешенька пойду позади скромной похоронной процессии родственников и друзей, но втайне все же надеялась, что мне позволят идти рядом с Ирочкой или даже взять ее под руку.
Никого я в это решение, естественно, не посвящала – афишировать такую поездку было ни к чему, ведь совсем недавно отшумела гневная буря, вызванная присуждением Пастернаку Нобелевской премии. В институте я отпросилась с лекции под предлогом заранее назначенной сессии с Левиком – наш дружный труд по кастрации моего перевода «Баллады» был в самом разгаре. Левику же я позвонила, и, не застав его дома, попросила его жену, Татьяну Васильевну, передать ему, что сегодня я никак не смогу приехать. Потом я купила у привокзальной торговки букетик нарциссов и поехала в Переделкино.
Хоть пригородная электричка была переполнена, как в воскресный день, я не заподозрила в этом ничего странного. Но когда я вышла на переделкинскую платформу, я обнаружила, что и все остальные пассажиры, не только моего вагона, но и других, тоже покинули поезд и двинулись в том же направлении, что и я. Шли группами и поодиночке, многие, как и я, держали в руках цветы. Через несколько минут у меня уже не осталось никаких сомнений, куда плывет этот людской поток, плотностью похожий на первомайскую демонстрацию, только без музыки и лозунгов. В ушах неотступно звучали строки:
«Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Был ощутим почти физически
Спокойный голос чей-то рядом,
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом…»
Возле дачи Пастернака к воротам было не протолкнуться, и над головами собравшихся высоко в небе звучал провидческий голос. Я с удивлением начала находить в толпе своих знакомых – где-то возле самого порога бросилась в глаза высокая фигура Корнея Чуковского, подальше, уже за забором мелькнул и исчез Виля Левик, милостиво освобожденный мною от своих рабочих обязательств, на обочине дороги кучковались какие-то завсегдатаи даниэлевских посиделок.
А народ все прибывал и прибывал. Значит, эти люди, совсем, как я, любили и оплакивали Пастернака, – отвергнутого, опороченного, оплеванного всеми допустимыми в печати бранными словами? И мне вспомнился рассказ Юлика Даниэля, после того, как он вернулся с заседания Союза писателей, посвященного изгнанию лауреата-предателя из дружной писательской семьи. Юлик членом союза не был, его тайком протащил на заседание Андрей Синявский, так что он просидел все это балаганное действо, затаясь в задних рядах и пряча лицо, чтобы не опознали и не выгнали. А мы в это время в волнении ожидали у Ларки его возвращения, – Юлика так долго не было, что у нас даже возникли опасения, как бы его не отправили в милицию за незаконное проникновение на строжайше закрытое собрание. А ведь могли вдобавок еще и побить!
Однако он вернулся далеко за полночь – живой, здоровый, но зато в крайнем возбуждении. Я не стану называть известные имена тех уважаемых поэтов и прозаиков, которые потрясли Юлика своими гневными отповедями предателю Пастернаку, – Бог с ними, пусть спят спокойно, – кто в могиле, кто в доме для престарелых. Я надеюсь, что им самим стыд за эти речи хорошо выжег сердца и души, приблизив тем самым кому могилу, кому дом для престарелых. Я хочу упомянуть только одного – Владимира Солоухина. Его речь поразила Юлика обилием и пространностью цитат из проклинаемого классика – поэзия Пастернака так возмутила партийную душу Солоухина, что он выучил ее наизусть!
Как, наверно, знала стихи Пастернака наизусть и вся эта толпа, пришедшая на проводы – без какого бы то ни было понуждения, без объявления в газетах, все вместе и каждый тайно от других!
Гроб, наконец, вынесли из ворот, и вдруг я увидела Юлика! Он был одним из четверых, выносящих гроб с телом поэта, вторым был Синявский. На миг я чуть не задохнулась от обиды – сам поехал, а мне ничего не сказал! Но тут же вспомнила, что я ему тоже ничего не сказала, и получалось, что мы квиты.
Нескончаемой нестройной колонной похоронная процессия двинулась к кладбищу. Где-то далеко-далеко, почти в хвосте колонны, ничем не выделяясь, шла заплаканная Ирочка, которую поддерживали под руки две ее институтские подружки, Алла Тарасова и Даля Эпштейн. Преодолевая сопротивление плотных рядов, я протиснулась сквозь толпу и пошла рядом с ними. Некоторое время мы мерно шагали в такт общему шагу, как вдруг совсем рядом началась какая-то суматоха: пожилая женщина, выделявшаяся среди горожан по-крестьянски повязанным на голове платком, пыталась прорваться к Ирочке. Я узнала домработницу Ивинской – тетю Полю.
«Ира! – зашипела она громко, не в состоянии подобраться поближе. – Беги скорей, там Олю отталкивают от гроба!»