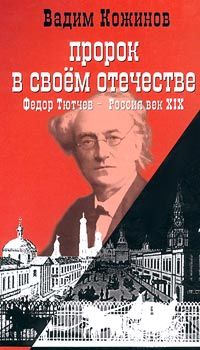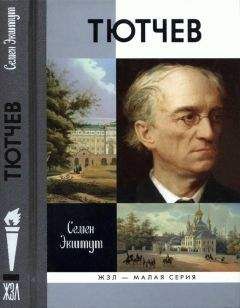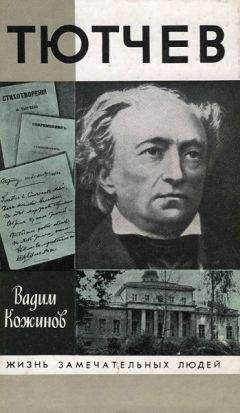И т. п.
Другая, но, в сущности, однотипная с этой форма — обращение к «ты» (или «вы»), которое вместе с подразумеваемым либо даже прямо выступающим «я» образует то же самое «мы»:
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.
(«Как неожиданно и ярко…»)
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум…
(«Silentium!»)
Над вами светила молчат в вышине…
(«Два голоса»)
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены…
(«Весна»)
Смотри, как облаком живым…
(«Фонтан»)
Подчас «ты» даже открыто переходит в «мы» — скажем, в стихотворении «Из края в край, из града в град…»:
И рад ли ты или не рад,
Что нужды ей? Вперед, вперед!
Знакомый звук нам ветр принес:
Любви последнее прости…
Или:
И ты ушел, куда мы все идем.
(«Брат, столько лет сопутствовавший мне…»)
Это настойчивое «уклонение» от формы «я» выступает иногда даже (что уже вообще удивительно!) и в любовной лирике Тютчева:
О, как убийственно мы любим…
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Но едва ли было бы основательным понять этот отказ от формы «я» как некий специально продуманный, осознанный «прием» поэта. Это, так сказать, обнаженное проявление единой творческой воли, воплощенной так или иначе во всем, что создал поэт. Ведь многие его стихотворения написаны все же от лица «я». Но та же самая воля воплощена в них менее очевидными и прямыми «средствами». Так, например, в знаменитом «Silentium!» повелительная глагольная форма исходит как будто бы от первого лица:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои…
Но в контексте тютчевской поэзии в целом стихотворение воспринимается прежде всего как обращение к самому себе любого и каждого человека. И та сокровенность «таинственно-волшебных дум», о которой поведано в стихотворении, предстает в целостности тютчевской поэзии как нечто, объединяющее людей, а вовсе не разъединяющее их. У каждого, у любого есть такая «душевная глубина», какую вообще нельзя понять «другому», но каждый из нас должен знать о молчащей глубине «другого», — вот в чем истинный смысл стихотворения, которое нередко толкуется ложно — как некий апофеоз личностной замкнутости… Ведь поэт и в этом стихотворении (самой его грамматико-синтаксической формой) обращен не к самому себе или, допустим, к надземным, надчеловеческим силам (что присуще действительно индивидуалистической поэзии), но к каждому, любому человеку.
И стоит повторить еще раз: прямое вхождение «я» в «мы», которое присуще целому ряду цитированных выше стихотворений, — это только открытое, обнаженное выражение внутренней устремленности тютчевской поэзии в целом.
Один из наиболее глубоких исследователей русского искусства Сергей Николаевич Дурылин (1877–1954) записал в 1926 году: «Я купил автограф Тютчева — „Святая ночь на небосклон взошла…“ и „Поэзия“. Смотрю на пожелтелые листки, исписанные „трудным“ почерком, каким-то гиератическим… (священным, жреческим. — В. К.), вещим почерком, — думаю с волнением, что эти трудно разбираемые буквы нанесла на бумагу властная рука, чертившая заклинания, а не стихи, водимая высшим принужденьем страстной мысли, глубоким давлением Вечного, несказуемого, рокового.
…И как слаба была та же рука в жизни — такая «человеческая… слишком человеческая»…»
Сказано замечательно, но все же не вполне точно. Вероятно, должно было пройти еще несколько десятилетий, чтобы стало гораздо яснее видно: между поэзией и жизнью Тютчева нет такого «разрыва», такой несовместимости. Рука его бывала достаточно «властной» и в его политических делах, да и в личных отношениях с людьми (например, с Иваном Гагариным и Генрихом Гейне). А вместе с тем странно было бы, если бы присущее Тютчеву в жизни «человеческое… слишком человеческое» не воплотилось бы и в его поэзии.
Да, его рука, пожалуй, сильнее, чем чья-либо, чувствовала «давление Вечного, несказуемого, рокового», но своей поэзией он стремился пробудить в каждом, любом человеке способность почувствовать, почуять это «давление». И те, кто открыли свой разум и душу голосу поэта, чуют его.
Тютчев «выше», чем кто-либо, поднимается в своем творческом взлете, но в то же время он в определенном смысле как никто стремится обратиться к душе любого из нас…
Рассказ о жизни Тютчева с необходимостью вынужден был обращаться к разным ее сторонам в их отдельности. Но, разумеется, в реальной жизни поэта все было нераздельно и едино. В это единство естественно и органически вливалась и его политическая деятельность как таковая, которая может казаться сама по себе недостаточно возвышенной, чересчур привязанной к сегодняшней ситуации, слишком «практицистской». При таком представлении возникает стремление искусственно отделить и отстранить политическое в Тютчеве от его поэзии и даже самой его личности.
Между тем крупнейший поэт следующей эпохи Александр Блок, не раз, кстати сказать, говоривший о верховной роли Тютчева в русской культуре, дал мощный отпор этого рода попыткам.
28 марта 1919 года он записал в дневнике: «Быть вне политики (Левинсон)?[129] — С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм… Будем носить шоры и стараться не смотреть в эту сторону. Вряд ли при таких условиях мы окажемся способными оценить кого бы то ни было из великих писателей XIX века… Нет, мы не можем быть «вне политики», потому что мы предадим этим музыку, которую можно услышать только тогда, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было. В частности, секрет некоторой антимузыкальности, неполнозвучности Тургенева, например, лежит в его политической вялости».
Отстранение от политики ведет к «антимузыкальности» — таково убеждение Блока, и оно совершенно неоспоримо подтверждается тезисом о «неполнозвучности». Тютчев в высшей мере полнозвучен, ибо в его человеческую и творческую личность (как и в личности Пушкина и Достоевского) естественно вошло и политическое содержание.
Собственно говоря, Тютчев и не мог не быть политиком, ибо без этого он не сумел бы осуществить смысл и цель самой своей жизни. Брат его второй жены, знавший Тютчева сорок лет, с 1830 года, в 1870 году писал о нем: