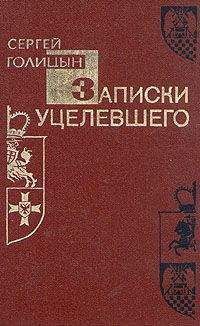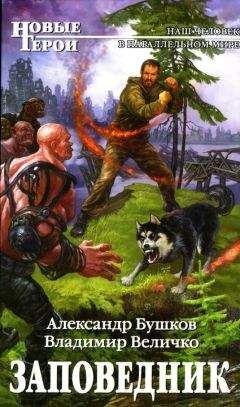В Апшеронской и на ближайших стройках все лето свирепствовала малярия, местных жителей она не трогала, заболевали приезжие. Внезапно на работе Граф вдруг сел на траву, весь скорчившись, и хоть день был теплый, задрожал мелкой дрожью, зубы у него застучали.
— Сережа, без меня справишься? — спросил он.
А я одновременно и жалел его, и ликовал про себя, что он мне доверяет. Я начал отсчитывать, записывать, командовать рабочим, где ставить рейки. Граф ездить на работу не мог, но сказал, что я справлюсь. Так, хоть и медленно, я освоил и теодолит, и тахиметрическую съемку.
Наверное, кроме немыслимого для нынешней молодежи усердия, во мне, прирожденном гуманитарии, все же билась хоть и тоненькая, а подлинно техническая жилка.
Пришлось мне совсем бросить привычные с самого раннего детства чтения. Книг просто не было, газеты попадались изредка. А впрочем, мы столь напряженно работали, обрабатывая по вечерам материалы, что на чтение не оставалось времени. Жизнь моя протекала на людях, никогда в одиночестве, даже задуматься о чем-либо я не мог.
А в глубочайшей тайне от всех на самом дне моего чемодана прятались первые главы моей повести «Подлец». Да, литературные мои дела застопорились. И все же я был счастлив, счастлив благодаря успехам в работе, благодаря моей ежемесячной помощи родителям. И еще была причина радоваться: я не чувствовал страха, какой ощущал в последние годы.
Изыскательские партии выгодно отличались тем, что, работая на лоне природы, вдали от всякого начальства, люди не чувствовали бдительных очей кадровиков и завов секретных отделов. Инженер старой закалки, Вячеслав Викторович Сахаров держал дисциплину крепко, но то была работа. Никакого гнета, как бывший, я не чувствовал. Да и никто, кроме него и Шуры Соколова, о моем происхождении и не подозревал. Знаю несколько случаев, когда молодые люди из бывших спасались от арестов, работая на изысканиях.
А впрочем, однажды со мной произошла глупейшая история, когда мне пришлось ощутить подлинный страх.
Потребовалось заснять небольшой участок под насосную станцию на берегу реки Пшеха за семь километров близ соседней станицы Ширванской.
Я был очень доволен, что доверили эту самостоятельную работу именно мне. Поехал на подводе с двумя рабочими, с инструментами, с продуктами на несколько дней. Подъехали к реке, на другой ее стороне раскинулись белые хаты станицы. Возчика я отпустил, мы перешли реку по пешеходному на канатах мостику. Оставив рабочих на берегу, я направился в стансовет просить, чтобы нам отвели жилье.
За столом сидел бравый молодец в казачьей папахе. Под его пиджаком на рубашке наискось шел ремень от револьвера.
— Документы? — бросил он.
Я показал красную книжку своего удостоверения личности, начал объяснять, зачем явился в Ширванскую.
— Командировочное удостоверение! — так же кратко бросил молодец.
Я оправдывался, что изыскательская партия стоит недалеко, зачем давать командировочное удостоверение в соседнюю станицу.
— А если ты тайный агент мирового империализма? Я должен тебя сейчас арестовать, отправить в Майкоп.
От страха душа моя шмыгнула в глубь глиняного пола. По счастью, из окон были видны рабочие, мирно расположившиеся на берегу реки.
Молодец, сказавшийся председателем стансовета, очевидно, понял, что перегнул палку, и приказал мне завтра же доставить справку, для чего я командирован в Ширванскую. Он сам пошел помещать нас на квартиру в одну хату и предупредил, что ставит в кулацкую семью.
Когда мы вошли в ту хату, неподдельный ужас вспыхнул в глазах хозяев пожилой женщины и девушки. Они молча и покорно поклонились…
Тогда Сахаров уехал в отпуск и оставил за себя Графа Брызгалова. Я ему написал сверхкрасноречивое письмо. Печати в изыскательской партии не было, но я знал, что Сахаров берег несколько пустых московских бланков с печатями. Передал ли он их своему заместителю, когда уезжал в Москву? А если не передал?
Посланец зашагал в Апшеронскую, а я с другим рабочим стал устраиваться на полу в чистой горнице хаты. И сразу обратил внимание на распухшие от слез лица матери и дочери. Я им объяснил, что приехал на несколько дней, буду измерять местность на другом берегу Пшехи. Мать убедилась, что я не представитель власти и, значит, нисколько не опасен. С рыданиями она принялась мне рассказывать о внезапно постигшей их беде: несколько дней тому назад арестовали ее мужа и ее сына, да еще отобрали пару коней, да еще грозят выселить из станицы. Дочь, миловидная девушка, только плакала. Мне особенно жалко стало ее.
Как мог, я их утешал. Мать растрогалась, угостила нас молоком, еще чем-то, постелила на пол перину и одеяло. Все следующие дни она варила нам обед, старалась, чтобы нам было сытно и уютно. А я выказывал ей свое горячее сочувствие.
На следующий день рабочий принес нужную справку. Председатель ее прочел, милостиво подал мне руку и сказал, что он всегда обязан проявлять бдительность.
Этот мимолетный эпизод я потому описал подробно, что то был единственный случай, когда мне пришлось столкнуться с жизнью местного населения. Мы, изыскатели, жили совсем особняком. Изредка попадалась нам местная газетка, вся пышущая ненавистью.
Невдалеке от Апшеронской был лагерь для заключенных, за колючей проволокой, с вышками часовых по углам зоны. Заключенных ежедневно выводили на строительство сажевого завода. Нам постоянно приходилось проезжать мимо зоны и мимо этого строительства. Но чтобы кто из нас обменялся мнениями сколько этих заключенных, за что они сидят! В те годы никому в голову не могло прийти такое — между собой разговаривать на запретные темы.
Сажевый завод, где должна была изготовляться сажа из нефтяных отходов, был целиком закуплен в США, за валюту, разумеется. Монтажом руководил специалист-американец. Вместе с переводчицей он постоянно проезжал по улицам Апшеронской на единственной в округе легковой машине. Вот о нем — с каким комфортом живет, чем его кормят, является ли хорошенькая переводчица также и его возлюбленной — мы пустословили постоянно.
Наступил новый 1931 год. А тогда этот, ныне столь любимый народом праздник вообще запрещали отмечать, считали отрыжкой капитализма, к революции никакого отношения не имеющим. И мы тоже его не отмечали.
Возвращались с работы, несмотря на брезентовые плащи и сапоги, промокшие, усталые, голодные. Апшеронская зима — это сплошные дожди, мокрый снег и слякоть. Местные жители, например, не копали по осени картошку и не держали ее в погребах, а по мере надобности в течение зимы выкапывали с огородов.