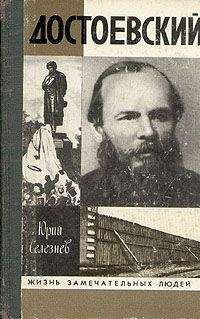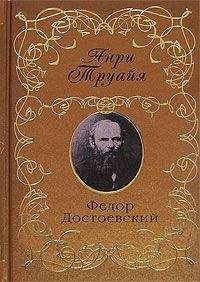«— Зачем Ты пришел мешать нам, — читал Достоевский... — Не Ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот Ты теперь увидел этих «свободных», — прибавил вдруг старик со вдумчивой усмешкой. — Да, это дело нам дорого стоило... Но мы докончили наконец это дело во имя Твое. 15 веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко... и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим...
Страшный и умный дух самоуничтожения и небытия, — продолжал старик... — говорил с Тобой в пустыне... И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах и что Ты отверг?.. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле... Разреши же сам, кто был прав, Ты или тот, который тогда вопрошал Тебя?
Ты пришел в мир, чтобы спасти человечество обетом свободы, а видишь ли сии камни в этой нагой пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку свою и прекратятся хлебы Твои. Но Ты отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли и сразится с Тобой и победит Тебя и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему!..» Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени... которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание...»
Этот образ — «камни и хлебы» — Достоевский давно уже облюбовал как свидетельство извечной борьбы противоречий, составляющих основу трагедии исторического движения человечества. Его просили в письмах — и студенты тоже — пояснить смысл этого образа, и Достоевский объясняя: «Камни в хлебы — значит теперешний социальный вопрос, среда... Это всегда было: дай пищу всем, обеспечь их, дай им такое устройство социальное, чтобы хлеб и порядок у них был всегда, — тогда уж можно и спрашивать, теперь же — с голодухи грешат. Грешно с них и спрашивать, ибо главные пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из невозможной борьбы за существование».
И христианство и социализм, считал Достоевский, вышли из одного истока (не случайно же чуть не все социалисты так или иначе, даже и отрицая религию, все-таки соотносят свои теории с учением Христа)47 — из страстной веры в возможность и необходимость гармонического человеческого общежития, устроенного на началах братского единения, «золотого века», «рая» на земле. Но христианство полагает достигнуть такого братства через внутреннее духовное совершенствование каждого, вне зависимости от социально-исторических условий жизни, без скидок на тяготы борьбы за существование, вопреки давлению окружающей среды. Противопоставить, отделить внутреннее, свой духовно-нравственный мир от внешнего, погрязшего в грехах и неправедности мира, — вот путь к перерождению мира: через его неприятие и отталкивание от него. Социалисты же — в этом, считал он, и суть их расхождения и вечного исторического спора между ними — рассчитывают исправить мир за счет социальной переделки самого этого внешнего, переделки, которая должна привести и к возрождению внутреннего человека. Христианство стоит на духе, социализм на разуме, но вот в разум-то, в чистый разум, отвергающий религиозные основы, Достоевский и не желал верить, поскольку, как писал он, религия есть форма нравственности, форма совести, а разум без нравственной, освобожденной от контроля совести — ужас. Но сама эта трагическая борьба двух начал, полагал Достоевский, и является силой, движущей человечество к «золотому веку». Если же человечество, писал он, достигнет одновременно и духовного и социального идеала — движение прекратится, ибо не к чему будет стремиться.
Обратить камни в хлебы, считал писатель, — и значит накормить голодных, но за счет забвения духовных человеческих начал, о которых, убеждал он себя и других, забывают социалисты. Итак, Иван своей легендой отрицает Христа, отвергнувшего искушение превратить камни в хлебы, как социалист? Сначала так думает и слушающий его Алеша. Но другая мысль, иная идея — внехристианского и внесоциалистического мироустроения вырисовывалась в сознании Достоевского как идея страшная, угрожающая человечеству превращением его в добровольного раба. Не о построении здания социализма пророчествует великий инквизитор устами Ивана, на воздвижение совершенно иного храма намекает он.
Социалисты, провозгласившие истину «Накорми, тогда и спрашивай добродетели», вещает великий инквизитор, тоже не смогут справиться с человеческой совестью, как не удалось это и Христу, — не им достроить здание. Сторонникам великого инквизитора надолго придется скрыться, они будут гонимы, но настанет время, и человечество само придет к ним, «ибо тайна бытия человеческого не только в том, чтобы жить, а в том, для чего жить», — придет и возопиет: научи! И тогда уж мы и достроим их башню, ибо достроит лишь тот, кто накормит, а накормим лишь мы, и солжем, что во имя Твое... И так будет до скончания мира», но мы, говорит великий инквизитор, сохраним свою тайну: «мы не с тобой, а с ним», искушавшим тебя в пустыне, «вот наша тайна!»
Ты, продолжает великий инквизитор, «жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко: они мечтают о многом, но нужно им, по существу, одно — сбиться в едино стадо, чтобы не пожирать друг друга, устроиться в «общий и согласный муравейник», ибо человек по природе своей — раб. И мы дадим ему этот муравейник, в котором он будет счастлив. И не будет никаких от нас тайн, ибо лишь мы будем владеть тайной, мы — сто тысяч избранных страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла, и будет счастливое «тысячемиллионное стадо», — мы заставим его работать, но мы разрешим и грех, ибо люди слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить...
С грустью смотрит Христос на великого инквизитора. Смотрит и безмолвствует.
— Кто знает, — заключает Иван, — может быть, этот старик существует и теперь, в виде целого сонма многих таковых, существует как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны? Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны...