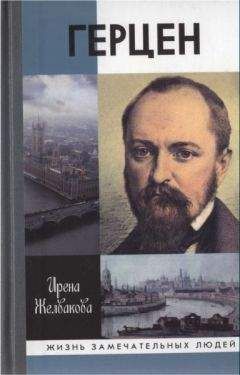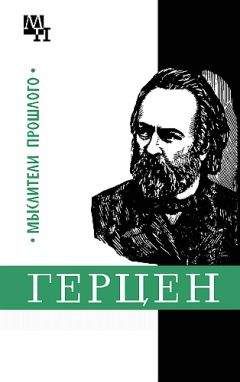Герцен, как всегда, держит удар. Передовая российская общественность негодует. «Хищническим набегом на честь» называет анонимный автор «Отечественных записок» (1863, № 3) недопустимость выражений, типа «старые блудницы», «исписавшиеся остряки» и прочее, используемых Катковым в своем обличительном раже. «Это значит, — обобщает рецензент, — что сказать ничего больше они не умеют».
Непозволительный тон катковской статьи многими, даже умеренными читателями, не принят. Катков в нужный правительству момент, понятно, проявляет предусмотрительную ловкость. Даже его «Заметка…» набирается в типографии «такими клочками, чтобы наборщики не могли сообщить ничего студенчеству университета…» — свидетельствует современник.
Тревоги и страхи, охватившие русское общество, еще более усугубляют разъединение даже его просвещенной части. Некоторые, в том числе и Достоевский, оценивший глупость и ничтожность революционного листка, тем не менее видят в «Молодой России» декларацию радикалов, «нигилистов», уже выведенных Тургеневым в только что вышедшем его романе «Отцы и дети». Раздаются голоса за и против Базарова. Достоевский считает необходимым остановить радикальную молодежь, для чего даже отправляется к Чернышевскому, в надежде на его непререкаемый авторитет в этих кругах[165]. Уверен: он может повлиять на события.
Герцену припоминают все, даже прежние, брошенные вскользь, вырванные из контекста его высказывания (такие, к примеру, как в «Тюрьме и ссылке» о революционной силе воздействия пожара). Агенты Третьего отделения сбиваются с ног, пополняя списки навестивших Герцена. В связях с Герценом подозревают многих русских литераторов и деятелей культуры, не говоря об обычных сочувствующих, желающих выразить свое восхищение деятельностью лондонских редакторов. Наблюдение возле дома Герцена усиливается. В обширные списки тайной полиции конца июля 1862 года внесены лица, отныне подвергнувшиеся не только пристальной слежке, но, возможно, и будущему аресту. Среди них музыкальный критик В. В. Стасов, композитор Н. Г. Рубинштейн, писатель А. Ф. Писемский и многие, многие известные лица.
Девятнадцатого мая Герцен, еще в России оценивший талант автора «Бедных людей», постоянно следивший за всеми новинками русской литературы, спрашивал у Тургенева: «Напиши, пожалуйста, где найти мне Достоевского воспоминания о каторге». Через два дня нетерпеливый вопрос уже превращался в просьбу-приказ — прислать «Записки из Мертвого дома».
Не успел еще Иван Сергеевич ответить, как в Лондоне появился сам Достоевский. Первое впечатление после столь долгого перерыва в отношениях передано в письме Герцена Огареву от 17 июля: «Вчера был Достоевский, он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек». Оттиск из журнала «Время» с разыскиваемыми «Записками» тут же поднесен автором «Александру Ивановичу Герцену в знак глубочайшего уважения…». Еще через пару дней, при втором свидании, Герцен подарит именитому гостю свою фотографию с надписью: «В знак глубочайшей симпатии от Герцена. 19 июля 1862 года».
Достоевский не останется в долгу. На следующий день, при третьей встрече, Федор Михайлович подпишет свою фотографию Александру Ивановичу «в память нашего свидания в Лондоне 8/20 июля 1862 года»[166].
Пережив эшафот и ссылку, Достоевский достаточно осторожен, и полиции, даже не знавшей о третьем его посещении лондонского отшельника, не к чему придраться.
В июле при обыске в Ясной Поляне в отсутствие Толстого будут захвачены старые письма Тургенева, а в них обнаружатся явные свидетельства о «коротких отношениях» Льва Николаевича с лондонским изгнанником. Вскоре и Тургенев будет вызван на следствие в Петербург по сколачиваемому тайным сыском «делу о лондонских пропагандистах».
На фоне всего происходящего в Петербурге, окрашенного заревом пожаров, в «Колоколе» начинается полемика двух давних друзей, выразившаяся в их незатихающем споре о судьбах России и Запада. Судя по всему, «и Тургенев дышит на ладан», в идейном, конечно, смысле. Герцен склонен и его, как Кавелина, вскоре «прихоронить». Тургенев, без сомнения, двойствен, переменчив и податлив, но в своих сочинениях гениально прозорлив, улавливает и воздух, и гарь, и дым каждой, вновь открывающейся для России эпохи. Печатается у Каткова, восхищается антикатковскими выступлениями «Колокола», и у Герцена нет ни минуты сомнений, что друг не сможет «апробовать говнословие Каткова» («но все же весело его прочесть», — бросает он в письме старому товарищу).
После майского визита Тургенева Герцен решает ему писать «авангардное письмо». Долгое продолжение возобновленного разговора займет многие страницы в «Колоколе». С 1 июля 1862 года, и на протяжении более полугода, Герцен печатает восемь писем, озаглавленных «Концы и начала». Первое из писем пишется в период их полного расхождения с Кавелиным и поэтому включает в себя некоторые идеи, связанные с общей позицией и Кавелина, и Тургенева.
Двадцать второго августа Герцен спрашивал друга, читал ли он послания к нему, «доволен ли ими, али прогневался…». Тургенев отвечал с готовностью начать полемику в «Колоколе», но остерегся, так как получил «официальное предостережение не печататься» в Лондоне. Недалек час вызова парижского жителя в Петербург, в Следственную комиссию. В полемическом противостоянии Герцена помогли частные письма Тургенева, включенные в тексты «Колокола», порой почти дословно и, естественно, анонимно.
После революции 1848 года Герцену особенно претит «мещанская цивилизация» Запада. Ему ненавистен буржуа, лавочник, рантье, «за цене стоящий». Он в поисках особенного русского пути. Уже прорастает зерно его веры в благодетельность русской общины. Спор о буржуазии, переросший тогда, на удивление друзей-западников, в демарш Герцена против «больной» Европы, затягивается надолго.
Не уготован ли западный путь для России? Время пришло дать ответ. Собственно, речь идет о российских «началах» и европейских «концах». В Европе, уверен Герцен, — одни «концы». А как же Маццини, Прудон, все выдающиеся деятели прошедшей эпохи, которыми жива память о революционной Европе? Они фантасты, фанатики и идеалисты, они «титаны, остающиеся после борьбы». «Они остаются последними часовыми идеала, давно покинутого войска…» Они — «Дон-Кихоты революции»[167]. Герцен приводит свою известную формулу. В революцию он давно не верит.
Герцен оппонирует своему идейному противнику, убежденному в том, «что если русские принадлежат к европейской семье, то им предстоит та же дорога и то же развитие, которое совершено романо-германскими народами…».