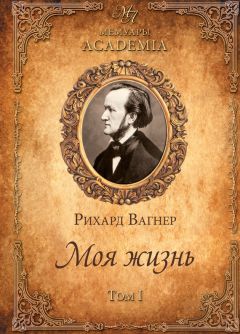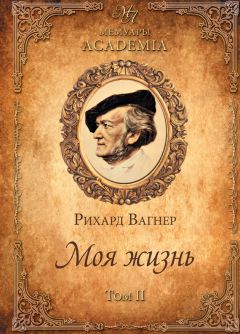Более спокойные, действительно желающие учиться студенты скоро бросили выполнение своих охранных функций, и только самые отбросы «абсолютного студенчества» оставались настолько упрямо верными своему делу, что властям стоило очень больших усилий освободить этих молодых людей от их обязанностей. Я выдержал до самого конца и завязал при этом знакомства, совершенно удивительные для моего возраста. Многие из самых отпетых «студиозусов» так и остались проживать в Лейпциге даже после своей охранной миссии и превратились в отчаянно распутных молодцов. Это были молодые люди, не раз уже изгнанные из различных университетов за драки и долги и нашедшие теперь в Лейпциге, где их благодаря совершенно особым условиям встретили сначала с распростертыми объятиями, надежное убежище.
25
В моих глазах все эти события, подобно землетрясению, разрушили весь привычный порядок вещей, весь уклад жизни. Зять мой, Фридрих Брокгауз, имевший полное основание обвинять прежние власти Лейпцига в неспособности поддерживать спокойствие и порядок, попал в струю видного оппозиционного движения. Его смелые речи, направленные в ратуше против членов магистратуры, сделали его популярным. Он был выбран вице-комендантом вновь созданной в Лейпциге так называемой общественной гвардии. Эта гвардия освободила наконец от студентов, перед которыми я благоговел, сторожевые посты у городских ворот. Нам было запрещено впредь задерживать прохожих для осмотра паспортов. Зато в новой гражданской милиции я видел нечто вроде французской национальной гвардии, а в моем зяте Брокгаузе – саксонского Лафайета. И это давало желанную пищу моему в высшей степени разгоряченному воображению.
Я начал с увлечением читать газеты и интересоваться политикой. Но в смысле личных интересов политика привлекла меня не настолько, чтобы заставить изменить любимому обществу студентов. Я последовал за ними из гауптвахты у городских ворот в обыкновенные кабачки, куда снова укрылась слава учащейся молодежи.
Особенно страстно мне хотелось самому стать поскорее студентом[138]. Достичь этого можно было только одним путем: надо было снова поступить в гимназию. В гимназии Святого Фомы, где ректором был человек старый и слабый, я мог скорее рассчитывать на успех. Я поступил туда осенью 1830 года с одной определенной целью – приобрести право быть допущенным к выпускным экзаменам. Важнее же всего для меня было, что вместе с приятелями-единомышленниками я организовал в гимназии нечто вроде студенческого братства, так называемого Pennälern[139]. Организация его была проведена со всевозможным педантизмом: введен Komment, упражнения в фехтовании, дуэли на рапирах[140]. На торжестве открытия корпорации, на которое было приглашено несколько настоящих вождей студенчества, я в качестве Subsenior’a [помощника председателя] председательствовал в белых кожаных рейтузах и высоких сапогах с раструбами[141], предвкушая все блаженство предстоящей жизни, когда, наконец-то стану настоящим студентом.
Однако учителя в гимназии были далеко не расположены беспрекословно содействовать моему стремлению стать студентом. К концу полугодия они нашли, что я совсем не интересовался занятиями в их учебном заведении, и никак не соглашались признать, что своей возросшей ученостью я приобрел право «академического гражданства». Надо было всему этому положить конец: я разъяснил моей семье, что совершенно не стремлюсь сделать хлебную карьеру в университете, а напротив, решил твердо стать музыкантом. Поступлению моему в университет в качестве Studiosus musicae ничто не препятствовало: махнув рукой на педантические придирки гимназических владык, я гордо оставил бесполезную для меня гимназию и обратился напрямую к ректору университета, с которым познакомился уже раньше, в дни народных волнений, с прошением о принятии меня в университет в качестве студента музыкального факультета, что и совершилось по внесении определенной платы без дальнейших затруднений.
Однако нужно было торопиться: через неделю наступали пасхальные каникулы, студенты разъезжались из Лейпцига, и тогда, до самого конца праздников, нечего было и рассчитывать быть принятым в корпорацию. Оставаться же все это время в Лейпциге, где я жил, не имея права носить цвета своей земляческой корпорации [Landsmannschaft] [142], к которому я так стремился, представлялось мне невыносимой мукой. Непосредственно от ректора я помчался стрелой в фехтовальный студенческий зал, чтобы, предъявив студенческий билет, просить о зачислении меня в землячество саксонцев[143]. Цель моя была достигнута. Отныне я мог носить цвета корпорации «Саксония»[144], очень в то время любимой и почитаемой всеми как насчитывающей в своей среде много воспитанных молодых людей.
26
В эти пасхальные каникулы, в течение которых я был единственным во всем Лейпциге представителем корпорации «Саксония», со мной случился ряд необыкновенных происшествий. Наша корпорация состояла первоначально главным образом из дворян, и к ним примкнули самые элегантные слои студенчества. Все принадлежали к наиболее уважаемым и состоятельным семьям Саксонии и особенно Дрездена, ее главного города, и каникулы проводили у себя дома, вместе со своими родными. В Лейпциге же оставались во время каникул одни только бездомные, «дикие» студенты, для которых, собственно говоря, не было никаких каникул. Вернее, каникулы для них никогда не прерывались. Между ними выделялась особая конгрегация отчаянных и буйных молодых дикарей, которые, как я уже выше упоминал, нашли здесь в дни былой славы студенчества последний приют.
С этими, мне необыкновенно импонировавшими и возбуждавшими мою фантазию, рубаками я лично познакомился еще тогда, когда они охраняли владения Брокгауза. Хотя университетский курс длился всего три года, большинство этих молодых людей не отлучалось из университета на родину в течение шести-семи лет. Поистине очарован был я неким Гебхардтом [Gebhardt], необыкновенным красавцем и силачом: его героическая, стройная фигура возвышалась над всеми его товарищами. Однажды, когда он шел по улице об руку с двумя приятелями, здоровыми и крепкими молодыми людьми, ему вдруг пришло в голову поднять их высоко в воздух. Как бы с парой крыльев из людей, он продолжал порхать с ними дальше по улице. Коляску, быстро мчавшуюся навстречу, этот человек останавливал сразу, ухватившись рукой за спицу заднего колеса. Он был глуп, но никто не осмеливался говорить об этом вслух из боязни перед его силой, и ограниченность его, таким образом, как бы даже не бросалась в глаза. Страшная мощь при спокойном темпера-менте сообщала ему какое-то особое достоинство, как бы ставившее его вне сравнения с остальными смертными.
Он прибыл в Лейпциг одновременно с товарищем Дегело [Degelow] родом из Мекленбурга. Этот был тоже силен и ловок, но размеров, во всяком случае, не столь колоссальных, и отличался большой живостью характера и необыкновенно подвижной физиономией. У него в прошлом была уже полная приключений бурная и беспутная жизнь, в которой игра, пьянство, безобразия любовного характера и всегдашняя готовность к дуэлям составляли главное содержание. Смесь бешеного самолюбия с наружной, выработанной, согласно студенческому кодексу, иронически-педантичной холодностью – такое сочетание являлось сущностью этой личности, как и всех подобных натур. Дикому, страстному темпераменту Дегело придавала особенную, демоническую привлекательность злобная бесцеремонность, с какою он часто относился к самому себе. Но в обращении с другими он нередко проявлял известную рыцарскую деликатность.
Вокруг этих двух наиболее ярких фигур группировались другие, образуя вместе компанию истинных представителей студенческого беспутства и доходящего до дерзости мужества. Некий Штельцер [Stelzer], настоящий боевой конь[145] из «Нибелунгов», по прозвищу Lope, числился в университете уже двадцатый семестр. Все эти люди представляли собою несомненные пережитки угасающего прошлого. Это были последние представители мира, обреченного на гибель, – они сами это сознавали, и все их поведение объяснялось этим их сознанием, их собственной верой в свой неотвратимый и близкий конец.
Среди них был некто Шрётер [Schröter], особенно привлекавший меня своею приветливостью, своей приятной ганноверской речью, развитостью и остроумием. Он, собственно, не принадлежал к настоящим «отчаянным», но занимал среди них позицию спокойного наблюдателя. Все в кружке охотно встречались с ним и любили его. Со Шрётером я действительно подружился, хотя он и был значительно старше меня. Через него я познакомился впервые с сочинениями Генриха Гейне[146]; от него я заимствовал некоторое определенное изящество в манере выражений. Я охотно поддавался симпатичному влиянию Шрётера, надеясь, между прочим, извлечь из общения с ним много для себя полезного в совершенствовании собственной внешности. Именно с ним я искал ежедневно встречи и находил его чаще всего либо в Розентале, либо в Швейцарской хижине Кинчи, всегда, однако, в обществе богатырей, вызывавших во мне смешанное чувство ужаса и поклонения.