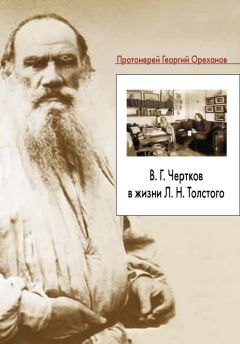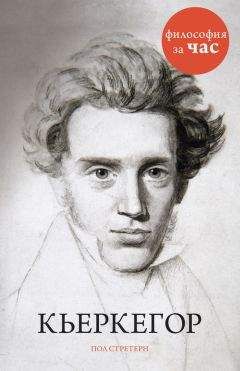Монахиня Мария (Е. Ю. Кузьмина-Караваева (Скобцова), 1891–1945) – поэтесса, публицист, мемуарист, общественный деятель. В детстве была хорошо знакома с А. А. Блоком, с которым состояла в длительной переписке, со многими русскими поэтами и художниками, а также с К. П. Победоносцевым, о котором оставила воспоминания «Друг моего детства». После революции 1917 г. в эмиграции, активная участница Русского студенческого христианского движения. В 1932 г. приняла монашеский постриг и целиком посвятила свою жизнь служению обездоленным. Активная участница французского Сопротивления, помогала евреям избежать нацистских преследований. В 1943 г. арестована нацистами. Погибла в газовой камере лагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 г., за неделю до прихода советских войск. В января 2004 г. причислена к лику святых Константинопольским Патриархатом.
а) неверие научное, т. е. тотальное торжество в науке и университетском преподавании позитивизма, который постепенно становится единственным способом преподнесения молодому поколению научных истин. Мнимая церковность, поддерживаемая искусственно государством, рождает только паралич мысли и зачарованность достижениями естественных наук;
б) неверие казенное, составляющее в значительной степени содержание «синодального благочестия»; в богословии казенное неверие приносит особенно ощутимые плоды, ибо порождает рецидив охранительной идеологии: те или иные формулировки на все века признаются безупречными, что не дает возможности свободного богословского поиска, без которого невозможен адекватный ответ на вызовы времени;
в) неверие бытовое, связанное с ориентацией русской культуры на западные идеалы, что в свою очередь приводит к постоянной смене политических, религиозных, воспитательных и художественных парадигм.
В этой ситуации, по мнению Ю. Ф. Самарина, в русском благочестии постепенно вырабатываются трагические тенденции. Вера ценится не как живой религиозный опыт, не как средство познания абсолютной истины, не как ответ на вопрос «как жить свято?», а как хрупкий и не совсем надежный способ получения личного успокоения, требующий при этом абсолютной консервации, не поощряющий поиск и поэтому уже неспособный дать ответы на сущностные запросы жизни. В таком отношении к вере и таится фактически скрытое неверие, а сама религиозность приобретает эгоистические черты самоспасения – так рождается мнимая церковность, основанная не на вере, знании и любви, а на безотчетно-эгоистическом страхе, который по-своему очень снисходителен к проявлениям в церковной жизни обмана, лжи, суеверий, а в XX веке, добавим из трагического опыта, и прямого предательства[44].
В этом контексте понятны горькие слова ректора Московского университета С. Н. Трубецкого, сказанные в неоконченной статье «О современном положении русской Церкви»: «…безверие и равнодушие в просвещенных слоях общества; приниженное состояние духовенства; его бессилие и деморализация; официальное лицемерие вместо живой нравственной силы <…> полицейское насилие вместо духовного убеждения <…> За пределами храма Церковь прекращается <…> в общественной жизни она не занимает никакого места»[45].
Одним из важных и очень характерных последствий «синодального благочестия» является искаженное восприятие святости, характерное для русской культуры в целом и даже для церковной среды. Вспомним, что на протяжении более чем двухсот лет (синодальный период, 1700–1917 гг.) в церковной жизни совершилось ничтожное количество канонизаций. Даже преподобный Серафим Саровский, один из самых великих русских святых, удостоился канонизации только после продолжительных дебатов, причем против его прославления были многие церковные иерархи и обер-прокурор Св. Синода. Это настоящий паралич духа, недоверие к святости, к высоким проявлениям духовной жизни, феномен «чудобоязни» (протоиерей Сергий Булгаков), «слабое, ничтожное понятие о православии» (ДПСС. Т. 22. С. 99).
И это есть закономерный результат тесной связи Церкви и государства. «Настоящее» Православие, которое никогда не умирало, а жило в глухих лесах и уединенных скитах, для современников Л. Толстого часто представляло загадку, великую тайну. Очень характерны вопрошания бывшего последователя Л. Н. Толстого И. М. Ивакина: «Мы думаем, что православие – только ризы да деревянное масло, а вдруг в нем есть нечто другое?»[46]
Замечательным символом этого паралича духа является видение Родиона Раскольникова на мосту в Петербурге.
«Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, – чаще всего, возвращаясь домой, – случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина…»
ДПСС. 6, 90.
Город, которым овладел «дух немой и глухой», стал символом не только эпохи в жизни государства, но и в жизни церковной. Церковный «паралич», о котором писал Ф. М. Достоевский, вызванный государственным попечением, в определенной степени (которую, конечно, не следует переоценивать), часто делал служителей Церкви глухими к запросам паствы и немыми в смысле духовной силы слова, обращенного к народу. Не случайно в своих диалогах «На пиру богов», написанных уже после Октябрьской революции 1917 г., священник Сергий Булгаков пишет о той легкости, с которой Русская Церковь была устранена (как тогда казалось) из русской истории, причем в деревне этот процесс проходил даже более выраженно, чем в городе.
«Слой церковной культуры оказался настолько тонким, как это не воображалось даже и врагам церкви. Русский народ вдруг оказался нехристианским <…>в России имеет культурную будущность только то, что церковно, конечно в самом обширном смысле этого понятия. И с оцерковлением русской жизни только и могут быть связаны надежды на культурное возрождение России».
Булгаков С. Н. На пиру богов // Из глубины: Сборник статей о русской революции / Библиотека русской религиозно-философской литературы «Вехи» <Электронный ресурс>. – http://www.vehi.net/bulgakov/napirubogov.html. – 26.10.2009.
Теперь следует несколько обобщить сказанное выше и обратить внимание на кризис несколько с иной точки зрения.
Слово «кризис» греческого происхождения и связано с глаголом «κρινω» – «сужу». Таким образом, кризис – это суд над отдельным человеком, переосмысление его жизни, или суд над большой группой людей, наконец, это суд над целой культурой, проверка ее жизнеспособности. Кризисные явления в культуре – это такие явления, которые сигнализируют об отступлении от некой нормы и свидетельствуют о некоем итоге развития, переломе, высшем напряжении.
Как объясняет русский философ И. А. Ильин, кризисные ситуации – это не автоматически катастрофа, как мы часто склонны думать. Это ситуации, когда опыт человека, группы людей или социума претерпевает решающее испытание. В кризисных ситуациях выступают скрытые силы, некие резервы, использование или неиспользование которых приводит либо к обновлению, либо к смерти, катастрофе. Другими словами, кризис культуры – это всегда некоторая задача, которая должна быть разрешена и нерешение которой чревато самыми тяжелыми последствиями[47].
Как изучать религиозный опыт?
Этот раздел книги потребует от читателя некоторых усилий. В нем я хотел бы предложить методологическую схему, которая поможет нам разобраться в том, что современная наука понимает под религиозностью. Сама схема возникла в недрах современного западного религиоведения, богословия и религиозной педагогики и связана исторически с задачей изучения религиозного опыта и религиозного мира современных молодых людей (школьников и студентов). Схема восходит к работам очень известных на Западе ученых – Т. Лукмана, П. Бергера, Д. Поллака, Н. Лумана, Ф. Кауфманна, И. Маттеса и некоторых других.
Эта схема универсальна и предназначена описывать религиозный опыт человека Нового времени. Более того, изучая одновременно дневник Льва Толстого и материалы по религиозности современных немецких студентов, я обнаружил странное сходство между, казалось бы, совершенно разными эпохами и культурами. И я решил осуществить эксперимент: использовать современные методы при изучении религиозного мира Толстого.
Начнем с вопроса: каким образом мы можем описать столь сложное понятие, как религиозный кризис? Для решения этой задачи читателю придется вспомнить свой элементарный опыт изучения стереометрии в средней школе. Обратимся к картинке, которая и представляет собой трехмерное религиозное пространство: