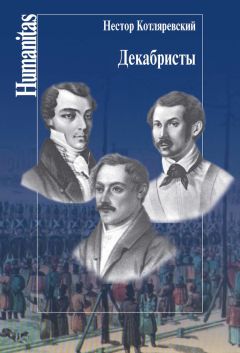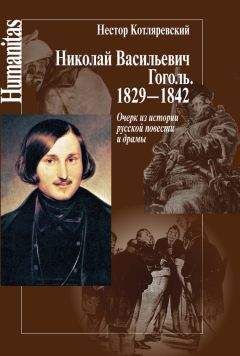Так текли годы, и мысль о близкой смерти все настойчивее и настойчивее тревожила фантазию поэта. Одоевский писал отцу:
Меня чужбины вихрь умчал
И бросил на девятый вал
Мой чёлн, скользивший без кормила;
Очнулся я в степи глухой,
Где мне не кровною рукой,
Но вьюгой вырыта могила.
[«Послание к отцу», 1836]
Но вот каторга сменилась поселением; окончились и годы поселения: Одоевский ехал на Кавказ. На пути, за несколько верст до Ставрополя, он и его товарищ М. А. Назимов, сидевший с ним в одной повозке, увидели стаю журавлей, летевших к югу. «Приветствуй их!» – сказал Назимов своему товарищу и Одоевский ответил на этот вызов стихами, в которых опять прозвучало приветствие смерти:
Куда несетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в синеве пылающих небес?
И мы – на юг! туда, где яхонт неба рдеет,
И где гнездо из роз себе природа вьет;
И нас, и нас далекий путь влечет…
Но солнце там души не отогреет,
И свежий мирт чела не обовьет.
Пора отдать себя и смерти, и забвенью!
Но тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?[122]
[«Экспромт», 1838]
И чем ближе подходил поэт к 1839 году, последнему в его жизни, тем явственнее слышался ему этот призыв смерти. Среди его стихотворений есть одно, очень сильное и мрачное, написанное неизвестно по какому случаю и обращенное к какому-то женскому образу, если под этим образом не разуметь души самого поэта. Это – очень яркое изображение предсмертной агонии.
Зачем ночная тишина
Не принесет живительного сна
Тебе, страдалица младая?
Уже давно заснули небеса;
Как усыпительна их сонная краса
И дремлющих полей недвижимость ночная!
Спустился мирный сон, но сон не освежит
Тебя, страдалица младая!
Опять недуг порывом набежит,
И жизнь твоя, как лист пред бурей, задрожит,
Он жилы нежные, как струны напрягая,
Идет, бежит, по ним ударит, и в ответ
Ты вся звучишь и страхом и страданьем.
Он жжет тебя, мертвит своим дыханьем,
И по листу срывает жизни цвет…
И каждый миг усиливая муку,
Он в грудь твою впился, он царствует в тебе.
Ты вся изнемогла в мучительной борьбе;
На выю с трепетом ты наложила руку;
Ты вскрикнула, огнь брызнул из очей,
И на одре безрадостных ночей
Привстала, бедная: в очах горит мученье,
Страдальческим огнем блестит безумный взор,
Блуждает жалобный и молит облегченья…
Еще проходит миг; вновь тянутся мгновенья
И рвется из груди чуть слышимый укор:
«Нет жалости у вас! Постойте! вы так больно,
Так часто мучите меня…
Минуты нет покойной. Нет! довольно
Страдала я в сей жизни; силы нет…»
Приведенные стихотворения говорят достаточно ясно о том, какое безотрадное настроение охватывало поэта всякий раз, когда он начинал размышлять о своем настоящем.
Особенно печально был он настроен в самые последние годы своей жизни. Его предсмертная тоска всего яснее отразилась в его стихотворении «Моя Пери», которое он сочинил в Карагаче, в Грузии, в 1838 году, т. е. за год до кончины. Это единственное из всех его произведений, в котором он изменил своей любви к людям и жизни, почувствовал полное свое одиночество и с радостью готов был променять земную жизнь на любую воздушную отчизну. В сборнике его стихотворений, эти мрачные строки – одни из самых грациозных.
Взгляни, утешь меня усладой мирных дум,
Степных небес заманчивая Пери;
Во мне грусть тихая сменила бурный шум,
Остался дым от пламенных поверий…
Теперь, топлю ли грусть в волнении людей,
Меня смешит их суетная радость;
Ищу я думою подернутых очей.
Люблю речей задумчивую сладость.
Меня тревожит смех дряхлеющих детей,
С усмешкою гляжу на них угрюмый;
Но жизнь моя цветет улыбкою твоей,
Твой ясный взор с моей сроднился думой.
О, Пери! улети со мною в небеса,
В твою отчизну, где все негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса
Пред цветом жизни цепенеет.
Как облако плывет в иной, прекрасный мир
И тает, просияв вечернею зарею,
Так полечу и я, растаю весь в эфир
И обовью тебя воздушной пеленою.
Была и еще область чувств и ощущений, куда поэт спасался всякий раз, когда тягота действительности давала себя слишком чувствовать. Это – его личные воспоминания. Они в нем оставались так свежи, что перед ними бледнело настоящее.
Так много ценного, светлого и радостного запечатлелось в этих воспоминаниях, что жизнь, которая хоть на мгновение могла дать человеку такую радость и такой свет, была в глазах поэта навсегда оправдана.
Одоевскому досталось в дар радостное безоблачное утро, согретое материнской любовью. Любовь к покойнице, столь рано отлетевшей, Одоевский сочетал со своей любовью к людям:
Тебя уж нет, но я тобою
Еще дышу;
Туда, в лазурь, я за тобою
Спешу, спешу!
Когда же ласточкой взовьюсь я
В тот лучший мир,
Растаю и с тобой сольюсь я
В один эфир —
Чтоб с неба пасть росой жемчужной,
Алмазом слез
На бедный мир, где крест я дружно
С тобою нес.
Но на земле блеснув слезами,
Взовьемся вновь
Туда, где вечными зарями
Блестит любовь.
[«К отлетевшей», 1828]
Такое же глубокое чувство питал он и к своему отцу, которого, к несчастью для себя, пережил, хотя всего лишь на несколько месяцев. Трудно найти более нежное стихотворение, чем то, с каким он обращался к отцу в 1836 году. Он писал ему:
Всю жизнь, остаток прежних сил,
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежный,
Чье сердце так еще тепло,
Хотя печальное чело
Давно покрылось тучей снежной.
Проснется ль темный свод небес,
Заговорит ли дальний лес,
Иль золотой зашепчет колос —
В луне, в туманной выси гор
Везде мне видится твой взор,
Везде мне слышится твой голос.
Когда ж об отчий твой порог
Пыль чуждую с иссохших ног
Стряхнет твой первенец-изгнанник,
Войдет – растает весь в любовь,
И небо в душу примет вновь,
И на земле не будет странник?
Нет, не входить мне в отчий дом
И не молиться мне с отцом
Перед домашнею иконой;
Не утешать его седин,
Не быть мне от забот, кручин
Его младенцев обороной!
[«Послание к отцу», 1836]
* * *В раздумье над своей судьбой Одоевский спрашивал однажды Провиденье:
Зачем земли он путник был,
И ангел смерти и забвенья,
Крылом сметая поколенья,
Его коснуться позабыл?
Зачем мучительною тайной
Непостижимый жизни путь
Волнует трепетную грудь?
Как званый гость, или случайный,
Пришел он в этот чуждый мир,
Где скудно сердца наслажденье
И скорби с радостью смешенье
Томит как похоронный пир? —
[«Элегия», 1830]
На этом похоронном пиру он имел, однако, друзей, которых любил искренне.
Дружба, мы знаем, не изменяла ему ни разу во всю его жизнь. Он был любимцем своих товарищей, Вениамином в их семье; и сколько счастливых минут эта дружба принесла ему! Когда один из товарищей привез ему привет от курганских ссыльных, он, чувствуя, какую волну до самозабвения радостных воспоминаний этот привет поднял в его сердце, писал им:
Так путники идут на богомолье
Сквозь огненно-песчаный океан,
И пальмы тень, студеных вод приволье
Манят их в даль… лишь сладостный обман
Чарует их; но их бодреют силы,
И далее проходит караван,
Забыв про зной пылающей могилы.
[«А. М. Янушкевичу»,[123] 1836]
Кажется, что и любовь, в тесном смысле этого слова, была одной из тех красот мира, которыми Одоевский успел насладиться. Нам, впрочем, ничего не известно о его сердечных привязанностях, но в двух стихотворениях есть несомненный их отблеск, есть намек на счастье, которое могло бы осуществиться, если бы поэт нечаянно не умер заживо. Оба стихотворения написаны в очень минорном тоне, но в этих грустных словах заключена радость очарованья:
Еще твой образ светлоокий
Стоит и дышит предо мной;
Как в душу он запал глубоко!
Тревожит он ее покой.
Я помню грустную разлуку:
Ты мне на мой далекий путь,
Как старый друг, пожала руку
И мне сказала: «Не забудь»!
Тебя я встретил на мгновенье,
На век расстался я с тобой!
И все – как сон! Ужель виденье —
Мечта души моей больной?
Но если только сновиденье
Играет бедною душой,
Кто даст мне сон без пробужденья?
Нет, лучше смерть и образ твой!
[«Мой непробудный сон», 1827]
Как носятся тучи за ветром осенним,
Я мыслью ношусь за тобою;
А встречусь – забьется в груди ретивое,
Как лист запоздалый на ветке.
Хотел бы – как небо в глубь синего моря —
Смотреть и смотреть тебе в очи!
Приветливой речи, как песни родимой
В изгнанье хотел бы послушать!
Но света в пространстве падучей звездою
Мелькнешь, ненаглядная, мимо —
И снова невидно, и снова тоскую,
Усталой душой сиротея.
[«К *»]
Но ощущение сиротства не могло поколебать веры поэта в святость и силу любви: ему стоило только оглянуться, чтобы иметь перед глазами пример такой самоотверженной и ни перед чем не отступающей привязанности; и Одоевский преклонился перед подвигом тех жен и невест, которые последовали в Сибирь за своими избранными и мужьями. Об этих «ласточках», которые прилетели в их тюрьму, этих «ангелах, низлетевших с лазури, небесных духах, видениях, одевших прозрачные земные пелены», об этих «благих вестниках Провиденья», которые каждый день садились у ограды их тюрьмы и умиротворяли их печали, поэт вспоминал с истинным умилением («Далекий путь», 1831;[124] «В альбом М. Н. Волконской», 1829).