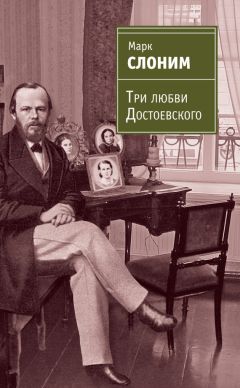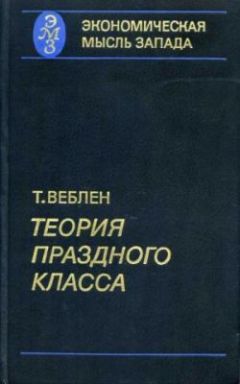«Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, и именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, поспешила отдаться ему в жертву первая».
Эти слова о Наташе из «Униженных и оскорбленных» вполне применимы к Марье Димитриевне и к ее отношениям с Вергуновым и, как это ни странно, с Достоевским. Она и мучила их обоих, и сама из-за них мучилась, и в этом соединении морального и любовного садизма и мазохизма находила особое наслаждение. И это ее болезненное, сложное ощущение перекликалось с такими же тенденциями Достоевского. Ему было тяжело, мучительно, и самая острота его страдания вызывала холодок восторга. Напряженность, необычность обстоятельств, слезы и страсть, обида и желание – всё это соединялось в невыразимо жгучее ощущение интенсивности бытия. Моментами ему казалось, что он теперь любит ее больше прежнего – за ее измену, за мучительство, за оскорбление.
Его охватывало неодолимое стремление всё отдать Марье Димитриевне, пожертвовать своей любовью ради ее нового чувства, уйти и не мешать ей устраивать жизнь, как ей хочется.
Когда Марья Димитриевна увидала, что Достоевский не упрекает ее, а только заботится о ее будущем, она была потрясена, как Наташа, которая говорит Ване: «Добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты всё простил, только о моем счастьи и думаешь». Но Достоевскому не пришлось долго страдать в позе мученика, и добровольной жертвы его Марья Димитриевна не приняла. «Не плачь, не грусти, не всё еще потеряно, ты и я и более никто», – сказала она, видя его страдания. В самый критический момент в ней снова вспыхнули жалость и нежность к Достоевскому. «Она вспомнила прошлое, и сердце ее вновь обратилось ко мне», – этими словами он описывал поворот в ее настроениях. Когда он менее всего ждал этого, она бросилась в его объятия и вознаградила его за всё, что он претерпел. «Я провел не знаю какие два дня, – писал он Врангелю, – это было блаженство и мученье нестерпимое». Передалась ли ей страсть Достоевского, была ли она захвачена возвратом собственного чувства, попалась ли в путы сложной своей игры или не захотела отказаться от владычества над обоими мужчинами – всё равно какой ценой, – но несомненно, что она снова сблизилась с Достоевским, и он мог сказать: «к концу второго дня я уехал с полной надеждой». Он сам подчеркнул это слово. Но несмотря на «доказательства любви», как он выражался, он сознавал трудность собственного положения. Прежние иллюзии его рухнули, Марья Димитриевна предстала ему в новом обличье, и вместо недавней ясности чувств в душе его ныне царил полный хаос. Когда он выехал из Кузнецка и опьянение недавней близостью выветрилось в дороге, он подумал, что, согласно французской поговорке, «отсутствующие всегда неправы»: «я далеко, а он с ней». Как бы ни были горячи недавние поцелуи Марьи Димитриевны, на верность ее рассчитывать нельзя было. Да и кто мог поручиться, что после отъезда Достоевского она не начнет колебаться и не вернется к молодому любовнику? Не успел Достоевский возвратиться в Семипалатинск и прийти в себя от физической и душевной встряски, как получилось письмо от Марьи Димитриевны: она тосковала, плакала, опять говорила, что любит Вергунова больше, чем Достоевского. Измученный и униженный, он забыл о своей дипломатии и написал и ей и ему, уговаривая обоих посмотреть на всё холодно и здраво: ведь их совместная жизнь, а тем более брак были бы безумием. Марья Димитриевна промолчала, а Вергунов обиделся и ответил грубой бранью. Это не помешало Достоевскому начать хлопоты по устройству его на лучшее место: ведь как-никак учитель мог вскоре стать мужем Марьи Димитриевны, а ее благополучие было ему дороже всего на свете. Он победил ревность и горечь, он поступил как Дон Кихот, принося самозабвенную жертву. Но страдал он от этого собственного благородства невыносимо. Идея брака Марьи Димитриевны по расчету, ради денег оскорбляла его нравственное чувство, вызывала возмущение против несправедливости, против «злой доли бедных». А мысль о том, что она собиралась выйти за бедняка, била по самолюбию, ранила его мужскую гордость. Ведь тут он и Вергунов были равны, оба в одинаковой степени не имели средств, чтобы содержать семью. Но 24-летний учитель и в будущем не мог ни на что рассчитывать, кроме грошового жалованья. Он был мало образован, и карьера ему предстояла самая ничтожная, всё в тех же начальных школах. А ведь Достоевский был писателем, он некогда достиг известности, и теперь, в одинокие ночи, верил в свое великое призвание. Значит, Марья Димитриевна предпочла ему Вергунова исключительно по любви. Речь шла о сентиментах в чистом виде. Почему же та, кого он избрал, кому отдал сердце, не разделяла его веры, не видела, что слава ждет его, не поставила на него? А это самое обидное для мужчины – знать, что для любимой он попросту один из многих и что она ничего не прочла на челе его. Очень многое в последующей жизни Достоевского объясняется этой обидой: ее редко прощают даже обыкновенные таланты.
Но сейчас обиду надо было проглотить: иного выхода у него не было.
«Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае, – объяснял он Врангелю. – Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в десять месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости». Справиться с этой «нелепостью» не было уж сил – и воспоминание о прежней, хотя и минутной, близости растравляло и кровь и воображение: он всё повторяет и о «доказательствах» ее любви, и о своих «правах» на нее. Но от жгучих воспоминаний не становилось легче: все заметили, что Достоевский совсем извелся. На смотрах и военных учениях он ходил как тень, знакомые опасались, что он свалится с ног. Нервное напряжение разрядилось припадком, и после него он оставался больным целую неделю. А к страданиям душевным и физическим прибавились еще и заботы материальные: поездка в Барнаул и помощь Марье Димитриевне (он постоянно посылал ей деньги) привели к тому, что у него накопилось свыше тысячи рублей долгу. Заплатить их было неоткуда, повсюду натыкался он на высокую, неумолимую стену, и вся жизнь представлялась ему не то блужданием по кругам Дантовского ада, не то диким видением больного мозга.
Втот самый момент, когда Достоевскому казалось, что он коснулся дна и дошел до предела унижений и горя, в существовании его стал медленно намечаться поворот к лучшему. Черная серия неудач завершилась, и впереди обозначились просветы. Первого октября 1856 года он был произведен в прапорщики – первый офицерский чин, и это означало, что он вновь возвращается в тот самый привилегированный класс, вне которого в России было так трудно жить. Кроме того, усилились надежды на помилование – а значит и на возвращение в Россию. Под влиянием этих обстоятельств или по изменчивости характера Марья Димитриевна заметно охладела к Вергунову. Вопрос о браке с ним как-то сам собой исчез, и она написала Достоевскому, что он «материально невозможен» (Вергунов зарабатывал 300 рублей в год). В письмах к Достоевскому она не скупилась на нежности, называла его братом, говорила, что тоскует по нем. А он в ноябре 1856 года писал: «Она по-прежнему всё в моей жизни, люблю ее до безумия… разлука с ней довела бы меня до самоубийства… Я несчастный сумасшедший. Любовь в таком виде есть болезнь». Он пытается дать разумное объяснение своему состоянию: «Она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу, всё мое существование». Услыхав, что Вергунов в опале, он воспрял духом и снова поставил ребром вопрос о своем браке с Марьей Димитриевной. Когда опять представилась возможность поездки в Барнаул, на этот раз в лучших условиях, потому что он был уже офицером, он помчался в Кузнецк, но теперь остался там не два, а пять дней. Его ждал прием, сильно отличавшийся от того, какой был ему оказан пять месяцев тому назад. Марья Димитриевна заявила, что разуверилась в новой привязанности и никого, кроме Достоевского, по-настоящему не любит. Перед отъездом он получил ее формальное согласие выйти за него замуж в самом ближайшем будущем. В письме Врангелю от 21 декабря 1856 г. он писал: «Если не помешает одно обстоятельство, я до масленицы женюсь». Что это было за обстоятельство – и к кому оно относилось? К Вергунову, неохотно отказавшемуся от своей возлюбленной, к Достоевскому, опасавшемуся новых осложнений, или к Марье Димитриевне, способной опять переменить решение? Как бы то ни было, Достоевский официально считает себя женихом. Он добился своего, мечта его, наконец, должна была осуществиться. Но в этот момент испытывал он не восторг, а усталость и апатию. Для каждого часа имеется свой закон, и хорошо только то, что приходит вовремя. То, что запаздывает, часто теряет свою цену, и дар, который наполнил бы пьяной радостью вчера, уже не веселит сегодня. Как бегун на трудном состязании, Достоевский очутился у цели, настолько изможденный усилием, что принял победу почти с равнодушием.