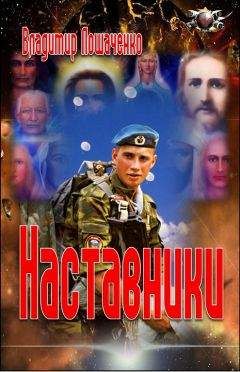... У моей бабушки, у моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадает....
Очевидно, сын стал сильно льнуть к отцу. Бабушка жалуется на него поверенной своей:
Все там сидит, сюда не заглянет. Экой какой он сделался!... Бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, как мал был. И напрасно я его удалила от отца, там умели его уверить, что я отняла у отца материнское имение, как будто не ему же это имение достанется. Кто станет покоить мою старость? И я ли жалела что-нибудь для его воспитания? Носила сама Бог знает что, готова была от чаю отказаться, а по четыре тысячи платила в год учителю... И все пошло не впрок.... Уж, кажется, не всяким ли манером старалась сберечься от нынешней беды... Ах, кабы дочь моя была жива, не то бы на миру делалось.
Наконец вопрос для Михаила Юрьевича был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом, но тут-то и началась самая тонкая интрига приближенных с одной стороны бабушки, с другой — отца. Бабушка упрекала внука в неблагодарности, угрожала лишить наследства, описывала отца самыми черными красками и наконец сама, под бременем горя, сломилась. Ее слезы и скорбь сделали то, чего не могли сделать упреки и угрозы, — они вызвали глубокое сострадание внука. Его стала терзать мысль, что, решившись ехать с отцом, покидая старуху, он отнимает у нее опору последних дней ее. Она дала ему воспитание, ей он обязан уходом в детстве, воспитанием, богатством, всем, кроме жизни, правда, но жизнь-то на что же?.. Ему казалось, что в несколько дней он приблизил бабушку к могиле, что он неблагодарен к ней... Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу за ее непонимание его, за нанесенные оскорбления, да, может быть, и под влиянием интриги, подозревает в сыне желание покинуть его, остаться у бабушки. Семейная драма дошла до высшего своего развития. Что тут произошло опять, мы знать не можем, но только отец уехал, а сын по-прежнему оставался у бабушки. Они больше не виделись — кажется, вскоре Юрий Петрович скончался. Что сразило его — болезнь или нравственное страдание? Может быть, то и другое, может быть, только болезнь. А.З. Зиновьев будто помнил, что он скончался от холеры. Верных данных о смерти Юрия Петровича и о месте его погребения собрать не удалось. Надо думать, что скончался отец Лермонтова вдали от сына, и не им были закрыты дорогие глаза. Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Юрий Петрович скончался в Москве и что его сын был на похоронах. Возможно, что стихотворение «Эпитафия», находящееся в черновых тетрадях 1830 года, относится к отцу.
Из него можно понять, что Михаил Юрьевич был на похоронах или у гроба отца. Во всяком случае, интересно, что высказанная в этом стихотворении мысль: «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал», совпадает с местом в драме «Menschen und Leidenschaften», тоже писанной в 1830 году, где Юрий Волин говорит отцу:
Я обязан вам одною жизнью... Возьмите ее назад, если можете... О, это горький дар!
По этой же драме выходит, что раздраженный отец проклинает сына, и, доведенный этим окончательно до отчаяния, сын налагает на себя руку.
Надо полагать, что Лермонтов перенес в это время страшные мучения, что катастрофа, разыгравшаяся в семье, действительно чуть не довела его до самоубийства. Не говоря о том, что мысль эта встречается в лирических стихотворениях на страницах черновой тетради, мы находим ее в записанных сюжетах для драм, и обе драмы его: «Mencshen und Leidenschaften» и «Странный человек» кончаются самоубийством героя.
Что первая из названных драм имеет чисто автобиографическое значение, кажется, ясно, но и вторая, написанная в 1831 году, носит тот же характер. Впрочем, ведь и сам поэт говорит об этом в предисловии к ней, замечая, что изображенные им лица «все взяты из природы» и что он желал бы, чтобы они были узнаны, так как тогда раскаяние верно посетит души тех людей...
Но пускай они не обвиняют меня. Я хотел, я должен был оправдать тень несчастного!
Этот несчастный, которого Лермонтов отдает на суд общества, очевидно, он сам. Да и есть отчего сделаться несчастным: он ли не любил отца, он ли в разлуке с ним не лелеял образ его, и вдруг неожиданно все разбито, все безвозвратно потеряно! От него, от его любящей души отец отвернулся. И он чувствовал, что отец, оскорбленный, любящий отец, не виноват — он не такой, каким его хотели выставить другие, тоже дорогие ему лица. Понятно, что юноша облегчал душу свою созданием поэтического произведения, излил всю желчь на свою бабушку. Не она ли подала повод к последней разыгравшейся катастрофе?.. Он и выставил ее в драме «Люди и страсти» с особенной неприязнью. По внешнему виду и всей обстановке, по содержанию ее нельзя не признать. Чувствуется на каждом шагу глубокая неприязнь юноши к виновнице его горя, и связывает его с ней только чувство благодарности. Вся симпатия лежит к отцу. Это несомненно для каждого читателя драмы.
Когда затем прошло некоторое время и острая боль улеглась, Михаил Юрьевич увидал, что он несправедлив был к бабушке своей. В то же время, желая выставить все события, «чтобы раскаяние посетило души виновных», он пишет еще раз драму — «Странный человек», в которой опускает бабушку и уже не с прежней симпатией относится к отцу. Может быть, ему стало известно отношение отца к матери, и он выводит ее на сцену доброй, любящей, загнанной. Что обе драмы вызваны одними и теми же мотивами, ясно при взаимном их сравнении. Целые сцены из драмы «Люди и страсти» перенесены сюда. Только герой называется не Волиным, а Арбениным. Это имя особенно дорого поэту и встречается в нескольких произведениях его. Зато в той и другой драме близким другом героя является Заруцкий. Одинаковую роль играет в обеих драмах и старый слуга.
Постигшее горе не могло не оставить глубокого следа на характере поэта. Он, что называется, ушел в себя. Явилось в нем что-то надломленное. С одной стороны — жажда любви, сочувствия; с другой — недоверие к счастью и к людям. Он еще больше ушел в природу и в ней отдыхал и искал облегчения раненой душе своей.
Об отце своем он, кажется, никому не говорил. Не тогда ли родилось в нем обыкновение скрывать от всех все, что было ему особенно близко и свято? Он выказывал людям только внешнюю, разгульную сторону свою, то. что немцы называют Galgenhumor. Это — шутки и юмор человека, идущего на смерть и не желающего, чтобы видели, что душа его смертельно поражена. Известно — и я буду иметь случай указать на это — что Лермонтов дурачился самым непозволительным образом, что он выкидывал легкомысленнейшие штуки в то время, как его занимали самые серьезные мысли. Только бумаге доверял он беседы со своим лучшим я. Немногие заглянули в его душу.