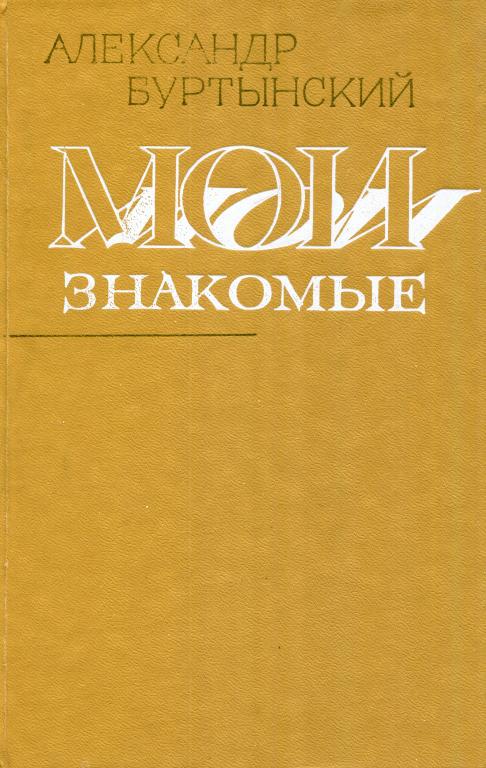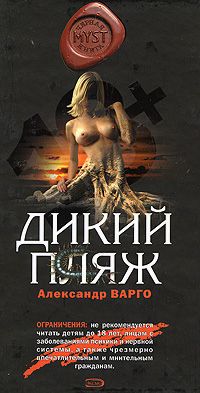пододвинув газету с коржиками.
— С орехами, тебе такие и во сне не снились.
После такого вступления что-то расхотелось есть, но Юшкин был настолько радушен, что отказать было нельзя. Дядюха отнекался было тем, что не любит сладкого, но Юшкин так обескураженно развел руками: «Чем могу, не обижай мамашу», что Дядюха тоже пристал к «столу», только попросил, чтобы Веньку не забыли.
— А то мы в три рта мигом подметем.
Юшкин ударил себя по лбу и, завернув кулек, сунул Веньке под подушку.
— Придет радист, уснет — проснется, а ему от родного боженьки подарок. Давайте, братцы, подчистую — подлежит уничтожению, холодильников нет.
— Ну и закусь, — вздохнул боцман, уминая давно забытый окорок, — сирота закусь. К ней бы портвейнца на худой конец.
— Есть кагор, будешь? — спросил Юшкин.
И, сунув руку в, казалось бы, пустой уже ящик, достал обернутую тончайшей бумагой высокую бутыль. Не зря боцман гипнотизировал посылку — нюхом чуял. А Юшка, снимая бумагу, усмехнулся: «Вот, как любимую раздеваю». Лицо боцмана слегка вытянулось.
— Фу-ты ну-ты. Матросу, а что шлют? Кагор…
— Это мамаша. Так будешь?
— Можно, конечно, — погладил лысину боцман.
— А не стукнешь капитану?
— С кагору? Это же детский сироп. Раньше младенцев причащали… — Отпил полстакана, причмокнул: — Хорошая, видать, мама у тебя. Они кто же, твои родители?
— Много будешь знать — состаришься.
Боцман хихикнул, не зная, обижаться ему или пропустить мимо ушей. Пропустил — бутылка только еще начата. А Санька, заминая неловкость, спросил — не прислали ли бритву? Юшкин только по лбу себя хлопнул:
— Писал же, а напомнить про бритву забыл. Ну ничего, Венькина не ступится. Давай, Сань, нажимай. А ты что, Дядюха?
Но тот вежливо чиркнул по горлу — мол, хватит, хорошего понемножку.
— А ты зря, смотри, заведешься… — Это он намекнул на шлюпочный анкерок с выпивкой.
Боцман, тотчас смекнув, призывно подмигнул Юшкину, дескать, хорошо бы завестись, разок можно. Однако Юшкин будто не заметил, даже не взглянул в его сторону. Боцман отрезал ломоть мяса, сказал участливо:
— Славный ты мужик, только хлипок характером, малость без стержня.
— Будет жизнь — будет и стержень.
— А жизнь-то строить надо.
— Ладно, давай без морали. Оставь на десерт.
Здесь, конечно, была ему не жизнь, а только пересадка перед дальним рейсом — в мореходку. Саньке почему-то стало обидно за него перед боцманом, так неуклюже затеявшим свои попреки за чужим столом, и он сказал насчет Юшкиной перспективы.
— Ого, — как будто удивился боцман, утерев горстью жирные губы, — это значиться, еще мной покомандуешь.
— Точно, — мутно усмехнулся Юшкин, вино на него что-то быстро подействовало. Или он уже успел заглянуть в свой анкерок. — Из таких, как ты, и подберу команду, чтоб все друг на дружку оглядывались, как бы кто не продал, — тогда порядок.
Боцман снова хохотнул, как бы по инерции, но на этот раз явно обиделся. А у Юшкина под соболиной бровью сузились глаза, и лицо в усмешливом оскале стало некрасивым, злым. И Санька с удивлением подумал, как это в человеке сочетаются щедрость и презрение к людям, хотя боцман своего, конечно, заслуживал.
— Ну ладно, — вздохнул боцман, поднявшись и натянув кепку, точно ничего особенного не произошло. — Спасибо, механик, за хлеб-соль… Пора и честь знать.
— Спасибо и вам, — в тон ему ответил Юшкин, — желаю вам этой чести побольше. После выпуска в капитаны прошу на банкет.
И оба рассмеялись, Юшкин — весело, боцман — сдержанно, одним ртом… Он ушел на вахту, Дядюха улегся и тут же захрапел. А Саньке не спалось.
Только сейчас вдруг вспомнил о Ленкином письме — как выпало из головы. Достал конверт. В тусклом свете плафона запрыгали перед глазами строчки в косой линейке — крупные, растянутые, как в школьной тетрадке.
«…Уважаемый Саша… В первых строках сообщаю… А мастер наш, Федот Федотыч, я тебе говорила о нем?.. Дала отворот, как мы с тобой подружились, и вот опять проходу нет. Вчерась сделал предложение. Надо же, черт настырный… Ну что с ним делать, посоветуй срочно…»
Ни о каком Федотыче он знать не знал.
Чуть защемило сердце — и прошло. Что он должен ей советовать? Повертел листок и спрятал его почему-то не в карман, а под матрац, с глаз подальше. Долго ворочался с боку на бок, потом все-таки поднялся, положил на Дядюхина «Жизнь растений» чистый лист бумаги и долго прицеливался пером, не зная, с чего начать, а когда все-таки начал, долго не мог сложить первую фразу, будто кто за локоть придерживал. Слова Лены как-то запоздало откликнулись в душе брезгливой обидой, неуверенностью — сам-то он даже не помышлял о женитьбе, надо было найти себя, встать на ноги — там видно будет, а Ленка — на тебе! — заспешила как на пожар. В девятнадцать-то лет!
И словно тыча ее в ее же послание, тоже начал с такого же обращения: «Уважаемая Лена», похожего на глупую игру. Зачеркнул и наново вывел по-человечески, — чего-то жаль стало, — написал о себе, о трудностях рейса, о соседях по кубрику и, конечно, о капитане — щедрой души человек, приучает его к морской науке, которая пригодится ему в мореходке, не век же рыбу солить. Но под конец все же приблизился к ее докуке и попросил, чтобы она там не маялась зря, а работала, как все порядочные девчонки, он вернется, и они обо всем поговорят. А пока он также будет вкалывать на совесть и ждать от нее писем.
Столовая на судне была небольшой, одновременно она служила красным уголком и залом для показа кинофильмов. Туда-то и позвал Никитич Саньку после обеда, там находился уже комсорг Мухин, маленький, шустрый, с вечно озабоченным взглядом. Он сидел за столиком, на котором был прикноплен свежий номер почти готовой стенгазеты. У Мухина был хороший почерк, и он переписывал все материалы от руки: и передовую из последней областной газеты, состоящую из одних почти цифр и цитат, и матросские заметки.
Никитич сухонькой рукой пригладил огненно-рыжую бородку и тоже присел, глянув на Саньку снизу вверх, с каким-то странным, поощряющим удивлением, собрав в улыбке белые лучи морщин.
— Оказывается, среди нас поэт!
И вынул из кармана все тот же листок со стихами — вот зачем капитан оставил его у себя. Этого еще не хватало. У Никитича в эту минуту был вид любознательного школьника, которому встретился человек редкой, непостижимой для него профессии.
— Ну… какой там поэт.
— Не скромничай, сам читал.
Санька молчал, весь пунцовый, он уже догадывался, зачем вызван, и всем своим существом противился затее Никитича. Слабые же стихи, пустые, он давно это понял, зачем же выставляться на смех.