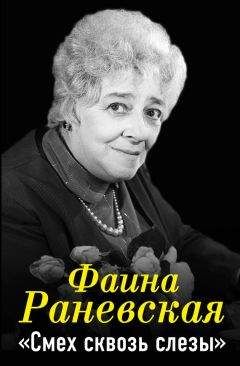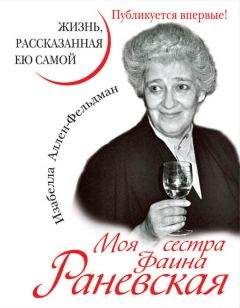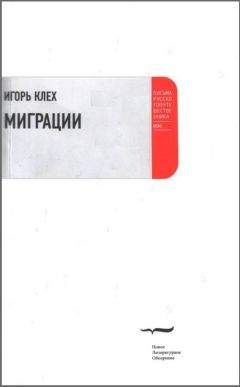Марина сердечно полюбила Ю.М. Посещала его доклады и очень любила даже короткие встречи с ним. Каждый его приезд в Москву был для нее праздником. В честь Ю.М. она назвала своего младшего сына Юрой[69].
Ю.М. часто и с благодарностью вспоминал, как Марина на один день приехала в Тарту, чтобы передать ему от меня «бесцензурное» письмо и лекарства. В 1972 году Ю.М. заболел инфекционной желтухой, и я была лишена возможности переписки, а главное, ничего не могла узнать о его состоянии. Привезенному письму Ю.М. так обрадовался, что писал мне, как «светилась тумбочка»[70], в которой оно лежало. Неожиданное появление Марины в больнице он запомнил навсегда. Сначала он Марину не узнал. Смущаясь, она сказала: «Я от мамы». Но болезненный вид Ю.М. настолько поразил ее, что она еле сдерживала слезы, а встать и уйти не могла. Рассказывала о своей учебе, о том, что ее грозят исключить из института за ошибки в немецких падежах – преподаватель требовала безукоризненного знания грамматики в первые же месяцы изучения нового языка. Ю.М. советовал ей учить немецкие стихи наизусть. Тревожился о том, что она будет делать одна в Тарту до отхода поезда обратно в Москву.
Марина еще раз побывала в Тарту летом 1979 года в трудное для Ю.М. время. Он говорил мне, что буквально умирал в то лето. Тяжелое состояние продолжалось весь июнь после сильного творческого подъема в мае, когда он одним махом написал четыре статьи. Приходя домой из университета, Ю.М. валился и спал, не мог никому, даже сестрам, отвечать на письма. Были перебои в работе сердца, и ему казалось, что дни его сочтены. Именно в таком состоянии Ю.М. начал принимать государственные экзамены. Марина была в Тарту проездом из Литвы. Купив букет пионов, она подошла к аудитории, где шли экзамены.
По ее словам, такой тяжелой мрачности она никогда до этого не замечала в Юрии Михайловиче, он был пугающе угнетен[71]. Но, увидев ее, он преобразился, заулыбался, повел в буфет, а потом пригласил домой и беседовал с ней у себя в кабинете. Она поразилась тому, как «не по-профессорски» выглядит его рабочий стол. Стола-то, собственно, и не было. Вместо него – низкий журнальный столик, на нем пишущая машинка, стеллажи книг по стенам и в углу узкая койка, покрытая полосатым пледом. Потом Ю.М. показывал ей Тарту.
Марина и в этот раз спасла меня от неизвестности и тревоги, потому что три месяца не было от Ю.М. ни одного письма. Он сказал мне, что после приезда Марины он начал выздоравливать и приходить в себя. Когда позже Марина переводила для своих студентов литературу по психолингвистике и составляла для них словарь психологических терминов, Ю.М. предложил прочитать для них лекцию[72]. Дважды Ю.М. был у Марины дома. В первый раз, когда еще не разладилась окончательно ее семейная жизнь, он рассказывал про внучек (как всегда, владел разговором он), но развеселить или разговорить моего бывшего зятя даже он не смог, хотя очень старался. И после визита, в который Марина вложила немало сил и любви, – сказал мне, что у Андрея, мужа Марины, невыносимый характер.
В 1985 году, когда Марина осталась одна с двумя детьми и душевное ее состояние было тяжелым, Ю.М. сам предложил мне навестить ее дома. Мы сидели и пили чай по-домашнему, но Ю.М., со свойственной ему проницательностью, многое подметил в поведении и характере детей. Маленький Юра, которому было тогда пять лет, с детской непосредственностью вскарабкался к Ю.М. на колени и спросил, не согласится ли тот быть его папой. Это больно поразило Ю.М., и на обратном пути в такси он все сокрушался. Вернувшись в Тарту, написал Марине, как он выразился, «ненаучное» письмо. В нем он не только делился с ней своими наблюдениями, но и предлагал некую стратегию поведения, направленную на восстановление душевного равновесия ее и сыновей. «Рану детей надо лечить, – писал он. – Это задача, перед которой должны отступить все личные переживания. Как лечить? Знаю, что скажу трудную, почти невозможную вещь: надо успокоиться самой. И не внешне. Притворное спокойствие не поможет. Дети (особенно импульсивный Юра), как собаки, ловят не слова, а флюиды и токи. Обмануть их нельзя. Юра внутренне чудовищно напряжен. Только тихая, спокойная атмосфера дома может его постепенно разрядить. Иначе детские неврозы могут дать потом тяжелейшие последствия и для характера, и для здоровья. Вам надо пересилить себя. Не бередить себе душу старыми переживаниями и воспоминаниями, а решительно перевернуть страницу». Кончалось письмо словами: «Пишу волнуясь»[73].
Тогда же, еще в Москве, он предложил ей новую научную тему, которая могла бы ее заинтересовать: «Женская культура в Англии». Посоветовал рассмотреть Мэри Шелли и женские романы ужасов. Полагал, что можно провести эту линию вплоть до поздней традиции фантастов. Заметил, что ни в России, ни во Франции такой линии не существовало.
Когда Марина получила визу на выезд из СССР, Ю.М. специально приехал раньше в Москву перед поездкой в Финляндию, чтобы проститься с ней[74].
Уже позже писал ей письма в Канаду, подсказывая структуру книги о русском юморе и анекдотах, которую она задумала. Дал ей также сопроводительное письмо к Мельчуку[75], работавшему тогда в Монреальском университете. Много раз потом в письмах[76] ко мне спрашивал, помогла ли ей рекомендация. К сожалению, Марине не удалось связаться с Мельчуком.
В тех случаях, когда я не могла отправить Ю.М. письма (лежала в больнице или жила на даче, где не было почты), Марина сообщала ему о положении дел в нашей семье, поскольку Ю.М. всегда тревожился, когда не получал долго известий.
Наши жизни были слиты много лет, естественно, что мы постоянно делились заботами сначала о детях, потом и о внуках, вообще о наших семейных делах. Во времена, когда начался массовый отъезд интеллигенции на Запад и во многих семьях такая возможность обсуждалась, дети Юры не хотели уезжать без него, а он не мыслил своей жизни за границей. Семидесятые годы, время брежневского застоя, казались беспросветными, и Юра говорил мне, что его сломить трудно, но одного он не вынес бы: если бы мучили его детей. Он всегда с беспокойством думал и говорил о Грише. Когда стали появляться внуки – дети Миши и, позже, Леши, – Юра не мог говорить о них без волнения, сам удивляясь тому, как много они значат теперь в его жизни. Обожал внучку Машу, в которой все его восхищало. Одна из внучек (кажется, Саша) переживала, когда ей было пять лет, что у человека только одно сердце. Хотела, чтобы было два, поскольку одно у дедушки больное, а второе было бы запасное.