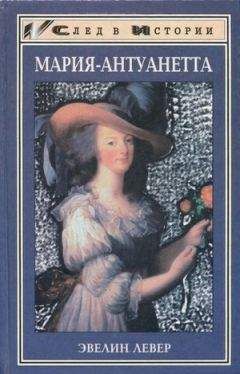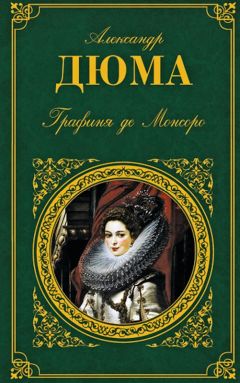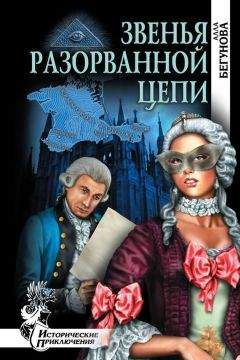Тогда как дофин и дофина думали лишь об охоте, прогулках и спектаклях, которые заполняли всю их вольготную жизнь, Мария-Терезия продолжала отправлять приказы Мерси, для того чтобы управлять молодой женщиной по своему усмотрению. Судьба альянса волновала ее теперь как никогда. Действительно, поводов для опасения было достаточно. 6 июня 1771 года Людовик XV, наконец, назначил нового министра иностранных дел, им стал герцог д'Эгильон. Назначение бывшего правителя Бретани, злейшего врага предыдущего министра и ярого противника высших судов, означало победу партии святош, партии, как это ни парадоксально, мадам Дюбарри. Больше ничего не требовалось, чтобы дофина отныне обращалась с новым государственным секретарем надменно, холодно, презрение же к фаворитке только удвоилось. Такое отношение не могло ускользнуть от короля и тем более от всевидящего ока Марии-Терезии.
Совершенно вдруг Мария-Антуанетта решила противостоять тому, что желает Вена. На этот раз упреки последовали не от императрицы, а от короля, через посредника — д'Эгильона. Последний, который обычно не торопился обсуждать политические вопросы с Мерси, сразу же пришел за объяснениями по поводу поведения принцессы. Людовик XV не только позволил, но и вдохновил своего министра побеседовать с послом. После обычных комплиментов он незаметно перешел па разговор о том ледяном тоне, который позволила себе дофина во время его представления как нового министра, он, не колеблясь, сказал, что не знает, как можно совместить характер принцессы с «таким поведением, причиной которого стало его признание королем Франции». «Его Величество, говорил он, — с большим неудовольствием наблюдал в поведении мадам дофины ярко выраженное презрение к людям, которые составляют цвет общества. Пусть мадам дофина не отказывается общаться с теми, кто составляет двор». Недовольство Людовика XV, высказанное через герцога д'Эгильона, имело гораздо больший вес, чем наставления мадам де Ноай, Используя все свое дипломатическое мастерство, на которое он только был способен, Мерси попытался объяснить причины столь необычного поведения Марии-Антуанетты, делая упор на то, «что было бы несправедливо требовать от пятнадцатилетней принцессы серьезных и обдуманных поступков, которые еще не свойственны этому юному возрасту». Посол не забыл также упомянуть о дурном влиянии ее тетушек и что в первую очередь надо заняться не принцессой, а ее окружением.
Вскоре узнав обо всем, Мария-Терезия ответила, что «она никогда бы не смогла одобрить свою дочь в ее вызывающем отношении к столь влиятельным лицам и упрекает ее в этом». Тем не менее она советует ей «не обращать внимания на неприятные черты характера людей, которых выделяет король». Взволнованный больше, чем сама императрица, канцлер Кауниц хотел, чтобы дофина извинилась перед королем за содеянное, как она сделала это в начале года. Он даже дошел до того, что продиктовал ей те слова прощения, которые она должна использовать в подобных обстоятельствах. Мария-Антуанетта хотела избежать разговора тет-а-тет с королем, притворяясь очень занятой, чтобы тратить драгоценное время на разговоры с Мерси. Она ограничилась тем, что стала более любезной с мадам Дюбарри и на редкость милой с герцогом д'Эгильоном и даже предложила герцогине место в своей карете для прогулки по королевским угодьям. Когда министр пришел представить ей принца Людовика Руанского, епископа, соправителя Страсбурга, он как раз собирался отъезжать в Вену, куда был назначен в качестве нового посла, она сказала ему несколько любезных слов. Тут уж дофина откровенно кривила душой, потому что не могла не знать, что назначение старого распутника вовсе не обрадовало ее мать. Мария-Терезия даже хотела не принимать его, однако предусмотрительность остановила ее, поскольку этот поступок мог навредить ее дочери.
Мария-Антуанетта завоевывала свою независимость. Проходили недели. Ничего не менялось. Мерси, со своей стороны, посещал фаворитку, притворяясь, что разговаривает с ней без всякой задней мысли, и беспрестанно обвинял тетушек в том, что они подстрекают дофину к непослушанию, тогда как сама дофина продолжала упрямиться воле матери и короля.
Однако ей пришлось уступить материнской воле. Мария-Антуанетта выбрала для этого новый год. 1 января 1772 года, когда фаворитка в сопровождении герцогини д'Эгильон и супруги маршала Мирепуа прибыла к дофине на праздник, Мария-Антуанетта повернулась к ней и сказала: «В Версале сегодня столько народу». Мадам Дюбарри торжествовала, король был удовлетворен, а Мерси с облегчением вздохнул. Впервые Мария-Антуанетта испытала страшное чувство поражения. «Один раз я обратилась к ней, но теперь точно знаю это все, впредь она не услышит от меня ни слова», — сказала она Мерси в присутствии своего мужа. Полностью поддерживаемый дофином, Мерси настаивал еще на одном — «необходимости осторожного поведения, дабы не шокировать короля своим невероятным упрямством […] и, в частности, не ввязываться в дворцовые интриги». Посол знал, насколько хрупкой может быть победа. «Я надеюсь извлечь выгоду из этой женщины, — писал Мерси Кауницу, говоря о фаворитке. — Лишь бы только дофина не помешала». Он располагал лишь одним настоящим средством давления на принцессу: убеждение ее в том, что альянс между двумя государствами находится под угрозой. И как свидетельство тому письмо Марии-Антуанетты матери, датированное 21 января. Послу пришлось прибегнуть к крайнему средству, чтобы заставить дофину поговорить с фавориткой. «Поверьте, что я пожертвую всеми моими предубеждениями и недостатками, только не предлагайте мне ничего бесчестного, — сказала она ему. — Если испортятся отношения между двумя странами, это будет самое большое несчастье в моей жизни; пусть я всегда останусь верна своему сердцу, но долг выполню до конца. Я содрогаюсь от мысли, что это может произойти, и надеюсь, что этого все же не будет, и уж, по крайней мере, не я буду причиной этой ссоры».
Глава 4. «ПЛОХОЙ ОТВЕТЧИК»
Очень тепло встреченная королем после этой памятной сцены, Мария-Антуанетта думала, что отдала дань и ему, и суровой матери. Еще несколько дней во всем Версале ей пели дифирамбы. И только назойливые тетушки ругали племянницу. Но теперь это не имело значения, поскольку дофину, наконец-то, оставили в покое. Она могла продолжать жить дальше, не упрекая себя, при дворе, к которому она так привыкла, лишь бы ее не ругали за определенные симпатии или антипатии и не заставляли демонстрировать те чувства, которых она не испытывает. Легкомысленная и небрежная, противница всяких условностей, Мария-Антуанетта утвердила себя как своенравная молодая женщина, неспособная лгать и притворяться. Ее живое, все еще детское лицо выражало все мысли, тогда как она даже не подозревала об этом. Любой мог почувствовать ее взгляд и внутренне содрогнуться, если только она смотрела не так, как подобает.