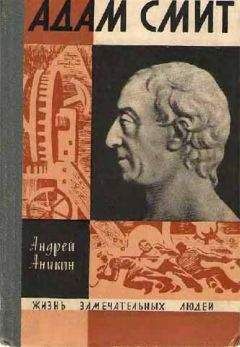Разделение труда — та мощная производительная сила, которая увеличивает богатство. Для значительного разделения труда необходим широкий рынок сбыта, поскольку оно предполагает то, что мы теперь называем массовым производством. Чтобы обеспечить этот широкий рынок, нужна свобода торговли — как внутренней, так и внешней. Если данная отрасль эффективна, то она выдержит любую конкуренцию, в том числе иностранную. Если же она не выдержит конкуренции, то это не будет потерей для страны: будут естественным путем развиваться более эффективные отрасли.
Идеи свободы торговли и ограничения вмешательства государства в экономику не были, конечно, открытием Смита.
Они не были открытием ни в этом юношеском эскизе, ни в монументальном «Богатстве народов». Сама промышленная революция «открыла» эти идеи. В какой-то мере их высказывали Монтескье, Юм и другие авторы.
Но Смиту суждено было соединить эти идеи с экономической теорией и построить здание политической экономии как науки, имеющей две стороны: абстрактный анализ и конкретные выводы для экономической политики.
Другая его заслуга состояла в том, что он соединил идею экономической свободы с идеей свободы политической.
Как бы ни был короток приведенный отрывок, в нем можно но когтям узнать льва. Мужественный, энергичный язык — характерная черта стиля Адама Смита.
Маркс однажды назвал английский язык современного Смиту шотландского экономиста сэра Джемса Стюарта гениальным. Безусловно, он мог бы с не меньшим основанием сказать это о Смите.
Чтение Цицерона и Сенеки, лекции о литературном стиле не пропали даром!
Продолжая читать свои лекции в Эдинбурге, Смит подал заявление на замещение открывшейся вакансии профессора логики в его родном Глазговском университете. 9 января 1751 года совет университета единогласно избрал его. Преподавание он должен был начать с нового учебного года, в октябре.
Больше всего он любил говорить с людьми, которые знали Ньютона. После смерти сэра Айзека прошло лишь два десятка лет, и такие люди были в Эдинбурге или время от времени появлялись из Лондона в клубах и салонах шотландской столицы.
Его поражали совпадения. Ньютон тоже родился через три месяца после смерти отца. В 17 лет он попал в Кембридж, как Смит в Оксфорд.
Правда, на этом совпадения пока кончались. К тридцати годам Ньютон был ученым с европейской славой, членом Королевского общества, создателем исчисления бесконечно малых и новой теории света.
Смит же был известен узкому кругу друзей как умный и образованный человек, подающий надежды. И только.
Жизнь, труды и облик Ньютона влекли его. Сэр Айзек был терпим, неистощимо доброжелателен, равнодушен к внешним почестям, щедр на идеи… Даже легенды о его рассеянности трогали Смита…
Года через два после переезда в Глазго Смит, будучи по делам в Эдинбурге, зашел, как обычно, к своему покровителю и другу, новоиспеченному лорду Кеймсу. В кабинете хозяина сидел гость — Дэвид Юм. На столе стояли три бутылки французского кларета, знаменитый философ был без кафтана, пуговицы щегольского атласного жилета едва сдерживали напор жирного живота.
Смит был уже знаком с Юмом и даже переписывался с ним. Во вновь основанном Литературном обществе Глазго он недавно прочел реферат о последних политических и экономических сочинениях Юма.
Налив себе полстакана вина, он сел в кресло поодаль. С двумя такими говорунами он мог пока и помолчать.
Юм, 40-летний сангвиник и вечный спорщик, полушутя-полусерьезно жаловался Кеймсу на невнимание читающей публики к его новым трудам.
— Но, мой дорогой друг, разве подобает философу так печься о земной славе? — улыбаясь, сказал Кеймс. — Вспомните великого Ньютона. Когда ему сказали, что за два месяца разошлось всего тридцать экземпляров «Principia mathematica»[15], он ответил, не отрываясь от рукописи: «Неважно. Истина установлена, этого с меня довольно».
— Это прекрасно, но я пишу не о вечных законах вращения планет, а о делах человеческих и государственных. Должно же это трогать людей.
— Если вы хотите, чтоб вас читала чернь, пишите памфлеты. Вам, как правоверному тори, это как раз впору при вигском засилье.
— Ну, для этого я, кажется, недостаточно желчен и зол.
Оба расхохотались. Смит поставил стакан и сказал, воспользовавшись паузой:
— Сэр Айзек полагал, что его методы применимы и к нашим наукам. Недавно я разбирался в его «Оптике» и натолкнулся на замечательную мысль. Это звучит примерно так: если натуральная философия усовершенствует свой экспериментальный метод, то это расширит и пределы нравственной философии. Человека и общество надо исследовать так же, как природу.
— Entre nous[16], это еще мысль Спинозы, которого как черта боятся наши шотландские попы, — заметил Юм. — Ньютона они тоже боятся, но не смеют этого показать. Ваша честь, велите подать бутылку портвейна из старого запаса. На прошлой неделе он был великолепен.
— Однако, Юм, для философа вы пьете многовато. Ни Спиноза, ни Ньютон не притрагивались к вину. А в пище Спиноза, говорят, довольствовался одной овсянкой, — усмехнулся лорд Кеймс, покосившись на заполнившую кресло массивную фигуру Юма. — Правда, в другом отношении вы, как и наш друг Смит, подражаете неудавшемуся раввину и президенту Королевского общества: оба до сих пор не женаты. Или вы можете сообщить что-нибудь новое, дорогой Смит? Говорят, у глазговских купцов прелестные дочки.
Смит отрицательно покачал головой, а Юм как-то странно фыркнул и, закуривая трубку, спросил:
— Ведь вы, милорд, бывали у сэра Айзека. Он давал вам показания по этому вопросу?
Кеймс помолчал, лицо его стало серьезно. Смит достал табакерку (он не курил трубку) и взял понюшку.
— Когда я его знал, он был уже очень стар. А я был еще очень молод. Сэр Айзек любил поговорить, и на своих скромных обедах беседу чаще всего вел он сам. Но о себе он говорил редко. Я помню только один случай, когда старик расчувствовался и заговорил о своих молодых годах. Он сказал тогда, что за два года, между 23-м и 25-м годами, если не ошибаюсь, сделал в науке больше, чем за всю остальную жизнь. Но это стоило ему любимой девушки, которой надоело ждать ученого жениха.
Юм внимательно слушал, болтая ногой, массивная икра которой была туго обтянута белым шелковым чулком. Смит сидел почти неподвижно, все еще держа в руке табакерку.
— Кто-то спросил его, почему он не женился на другой. Сэр Айзек подумал несколько мгновений и ответил: «Сначала я был очень огорчен и стал искать утешения в работе. И как-то получилось, что тридцать лет не отрывался от книг, линз и инструментов. А когда оторвался, было уже поздно». — «И вы не жалеете об этом?» — спросил тот же. «Нет, мой друг, — ответил старик и прибавил: — «Ars longa, vita brevis»[17]. А женщины сокращают нашу и без того короткую жизнь».