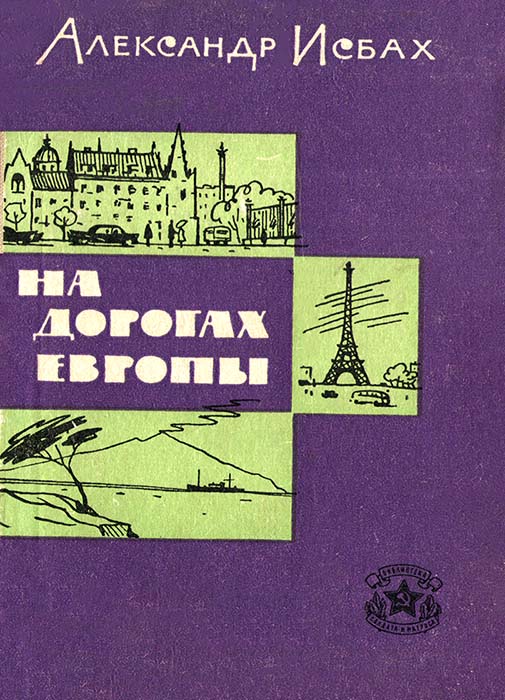ничтожность. Искусство имеет цель — не выдуманную, не деланную, но рождаемую его полнотой и чистотой. Искусство будит мысли… Искусство рождает порыв, а порывы рождают святые дела…»
И как же ненавидел он штукарей, которые примазывались к литературе во все времена! Как негодовал он против малейшего проявления пошлости в искусстве!
«Оскорбляет до боли, что песни наши, любимые народом песни, полные чувства и огня, постепенно вытесняются разной пошлостью.
Дети не знают народных песен, но распевают разные гадости, вроде:
Я директор Варьете,
Театра Зона, театра Зона… [3]
Я в помощницах была
У Пинкертона, у Пинкертона…
С большой охотой поют «Мариэту»:
Мариэта… Люблю за это,
Что ты к нам вышла без корсета…
А о «Пупсике» [4] уж и говорить нечего, на нем все словно помешаны.
…Меня просто тошнит, физически тошнит, когда я слышу эту пошлость. В душе накипает злоба, хочется кому-то мстить, мстить жестоко…»
Это написано в 1914 году, в начале первой мировой войны… Задолго до «утомленного солнца», которое «тихо с морем прощалось», задолго до многих «гитарных» песен… шестидесятых (!) годов…
А в конце 1915 года, хлебнув тяжелой фронтовой жизни и ненавидя тыловых мещан и окопных туристов, он писал о пошляках и мещанах:
«Любя треск и бесцельную болтовню, они создали Игоря Северянина, не в силах превозмочь ни единой главы Достоевского. Скоро движение. На Игоря плюнут, а может, не удостоят плевка — куда же эта шатия уйдет?..»
Рядом с постепенным, сложным осознанием всей преступности царского строя, погнавшего миллионы людей на бойню, рядом с ненавистью к царским чиновникам и мещанам («Глупость или измена — этот роковой вопрос давно взбурлил народные массы…») зреет вера в жизнь, в будущее, в народ, в свои собственные силы и творческое призвание.
«Вера в себя не должна умирать ни на единый миг…»
«Слышите, как сильно бьется пульс русской жизни? Взгляните широко открытыми алчущими глазами, напрягитесь взволнованным сердцем — и вы почувствуете живо это могучее дыхание приближающейся грозы…»
(В эти же дни Маяковский писал: «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год».)
«Чувствую в себе огромную жажду жизни, любовь к ней, надежду на собственные силы и плодотворную работу, веру в то, что моя жизнь может гореть и светиться, но не тлеть…»
Но не тлеть… Это лейтмотив.
«Скоро придет главное — тогда отдам ему все силы…»
Мысли о жизнетворящем искусстве никогда не покидают его. Даже в самые тяжелые дни, даже в самой гнетущей обстановке.
«Я чувствую полную неспособность к пессимизму, мертвому отношению к жизни. Непротивление мне как-то не к лицу».
«Громко, смело зову молодую свою жизнь на яркий, солнечный путь… Слава тебе, живая вера в живой источник живой души…»
А потом революция. Фурманов в самом котле революционной борьбы. Путь к большевизму. Иваново. Гражданская война. Чапаевская дивизия…
И, наконец, воплощение многолетней мечты… Творчество. «Чапаев».
Органична связь взглядов на искусство зрелого Фурманова, автора прославленного «Чапаева», с мыслями, записанными в юношеских дневниках. Единый кодекс. Единая эстетическая программа.
О художественном творчестве он мечтал всегда. И тогда, когда вместе с Чапаевым водил на врага бойцов в лихие атаки. И тогда, когда вместе с Ковтюхом возглавлял легендарный десант в тыл Улагая.
Коммунист, комиссар, начальник политотдела Фурманов записывал в дневник 17 января 1920 года:
«Я жил все время как художник, мыслил и чувствовал образами».
Кончилась война. Он сумел воплотить в замечательной книге весь свой опыт горячей боевой жизни. Он стал известным писателем. Но он всегда был готов
«в случае крайней нужды оставить литературу и пойти работать на топливо, на голод, на холеру бойцом или комиссаром… Эта готовность — основной залог успешности в литературной работе.
Без этой готовности и современности, — писал он, — живо станешь пузырьком из-под духов: как будто бы отдаленно чем-то и пахнет, как будто и нет… Со своим временем надо чувствовать сращенность и следовать не отставая — шаг в шаг…» (Курсив мой. — А. И.)
Уже в Москве, приступив к работе над «Чапаевым», окунувшись в безбрежное творческое море, он делился с дневником сокровенными своими раздумьями.
«Не хочу я славы, счастье жизни отнюдь не в славе, это заблуждение… но сам ты, сам — не будь скотиной только своего стойла, вылезай за тын своего огорода, живи общественной жизнью. Помни, что счастье и не в том, чтобы жить только личною, тем паче растительной жизнью…»
В 1923 году (уже после окончания «Чапаева») Фурманов пишет статью «Спасибо», как бы завершающую все его мысли о задачах искусства, которые были намечены в первых дневниковых записях еще десять лет назад:
«Настоящим, подлинным художником никак нельзя считать того, кто занят в искусстве разработкой элементов исключительно формальных… Настоящий художник всегда выходить должен на широкую дорогу, а не блуждать по зарослям и тропинкам, не толкаться в скорбном одиночестве… Художник лишь тогда стоит на верном пути, когда он в орбиту своей художественной деятельности включает основные вопросы человеческой жизни, а не замыкается в кругу интересов частных и групповых… Надо уметь ловить пульс жизни, надо всегда за жизнью поспевать, — коротко сказать, надо быть всегда современным, даже говоря про Венеру Милосскую…»
Какая поразительно цельная программа на протяжении ряда лет. И каких лет! И какая партийная программа! И главное: программа, находящая органическое воплощение в собственной художественной практике.
Перелистываешь страницы фурмановских дневников и на каждой из них находишь золотые крупицы его раздумий, заповеди писателя, которые сохранили всю свою боевитость и в наши дни, которые и сегодня действенны, как «старое, но грозное оружие»:
«Нужна художественная политика».
«Поэзия Некрасова настраивала на боевой лад, в этом ее заслуга».
«Простота в искусстве — не низшая, а высшая ступень».
«Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных мастеров».
«Формальные приемы творчества — язык и проч. — зависят от содержательно-идеологической сущности произведения» (Плеханов).
«Весь старый мир мы тоже можем освещать (не только современить!), но под своим углом зрения».
«Эстетика должна быть наукой исторической и отнюдь не догматической. Она не предписывает правил, а только выясняет законы; она не должна осуждать или прощать, она только указывает и объясняет».
«Голос пролетлитературы был всегда созвучен революции».
«Ближе к живой конкретной современности!»