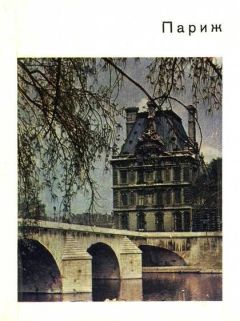Однажды по телефону мне сообщают, что бывший директор Руанского лицея покинул Европу и живет в Нью-Йорке у дочери. Я отправляюсь его навестить и с радостью нахожу старого и обходительного французского эрудита, который посреди всей этой неразберихи продолжает философствовать, цитируя классиков. «Как прекрасен был наш парадный лицейский двор, — говорит он. — Корнель работы Давида Анжерского... И великолепная иезуитская часовня... мне, государственному служащему, пришлось реставрировать памятник Лойоле перед ней...»
Пришло письмо от Луи Жилле — удивительное, героическое, совершенно в духе этого благородного человека. Приходят и другие: от Андре Жида — серьезное и проникновенное; от Роже Мартена дю Гара, от Жана Шлюмберже, от Анны Эргон. Она в Алжире и изо всех сил старается подкармливать моих детей, потому что во Франции голод; проблемы еды горячо обсуждаются в наших письмах. Жеральд нашел себе место, через силу работает. Оливье болен и живет в горах, в школе-санатории. О дочери и матери, которые сейчас в Париже, я узнаю от тещи, но и ее письма по известным причинам осторожны и содержат высказывания, порой прямо противоположные ее мыслям, — все мы вынуждены остерегаться многоэтапной цензуры. От этих истерзанных, испещренных клейкими цензорскими заплатками конвертов веет страданием. Когда их вскрываешь, в горле стоит комок. И начинаешь мечтать, как бы увидеть любимых и сказать им все, о чем неизбежно молчат письма.
Но ждет работа. В соседней комнате уже застрекотала машинка жены. Мы занимаемся одновременно этой книгой, подготовкой моих лекций и, что самое трудное, работами, связанными с войной. Так что живем одни и не знаем ни минуты покоя. Счастливый брак — это непрекращающийся диалог, который всегда кажется слишком коротким. Иногда по вечерам, когда из Франции приходят утешительные вести и дневные труды успешно завершились, когда ночь тиха и огни над городом величественно прекрасны, нас посещает мимолетная, неуместная и дерзкая надежда на лучшее. «Увы, — говорит тогда Симона, поеживаясь, — опять что-нибудь стрясется».
Она теперь, как и я, знает, что счастье подобно анемонам, бело-розовым цветам моего детства, которые нельзя срывать.
Возможно, она права. Вот-вот прозвучит новый свисток, и рок сменит декорацию, как уже сменил однажды. Рокфеллеровский центр и Эмпайр-стейт-билдинг могут исчезнуть так же быстро, как исчез Булонский лес. Возможно, теперешняя наша жизнь, такая неустойчивая, хрупкая, с таким трудом кое-как налаженная за год, рухнет в один миг, как рухнула прошлая, казавшаяся незыблемой. Что предстанет перед нашими глазами, когда вновь зажгутся огни рампы если они зажгутся? Этого не может знать никто. В глубине души теплится боязливая, но упрямая мысль, что, может быть, это вновь будет декорация милого сердцу, славного Перигора, длинная долина с подступившими к ней вплотную тополями, карминовая черепица «Бруйяка», пылающая в лучах закатного солнца... Ночью же, когда совсем стемнеет, поверх платанов и кедров засверкают на небе знакомые созвездия, которые на самом красивом языке мира назовут родные голоса.