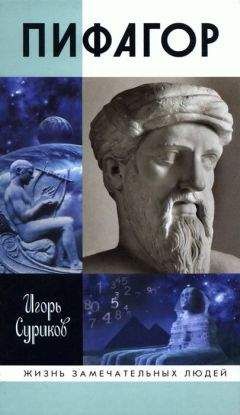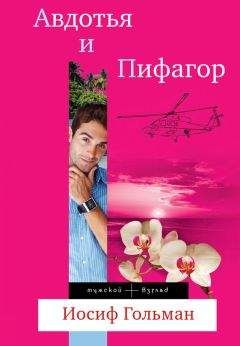Так вот, взгляды этого представителя древнегреческой литературы не менее пессимистичны. Он изображает всю историю человечества как последовательность сменяющих друг друга и постоянно ухудшающихся поколений или «веков»: золотого, серебряного, медного… Наконец, наступает «железный век» — тяжелое, мрачное время жизни самого поэта. Но Гесиод и в будущее смотрит без малейшего признака надежды. Дальше будет еще хуже:
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут.
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым.
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.
Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет неотвязно
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным.
Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет.
(Гесиод. Труды и дни. 182 слл.)
Справедливости ради следует сказать, что подчеркнуто пессимистической позиции Гесиода и Феогнида можно противопоставить, например, реалистическое жизнелюбие величайшего лирика той же архаической эпохи — Архилоха:
Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады — твердо стой, не трепещи.
Победишь — своей победы напоказ не выставляй,
Победят — не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.
(Архилох. фр. 128 West)
Позиция этого стойкого, мужественного жизнелюбия постоянно слышна в произведениях Архилоха. Причем это жизнелюбие не идеалиста «в розовых очках», а человека, реально смотрящего на мир, не понаслышке познавшего все подстерегающие в нем трудности. Человека, для которого «жить», по сути, означает «выживать» (Архилох был воином-наемником, постоянно нуждался), — и тем не менее он любит и ценит жизнь даже такой.
Но в целом идея исторического прогресса, движения «от худшего к лучшему», от низшего состояния к высшему упорно не приживалась в Греции. Лишь у некоторых авторов V века до н. э., периода высшего расцвета эллинской цивилизации сразу после побед над персами, мы встречаем представление о прогрессе и исторический оптимизм. Иными словами, уже после смерти Пифагора. И в любом случае преобладали всегда иные концепции: не прогресс, а либо регресс, постоянная деградация и ухудшение (как мы только что видели у Гесиода), либо в лучшем случае циклизм — движение истории «по кругу» и «вечное возвращение» к одному и тому же.
Этот древнегреческий циклизм для нас чрезвычайно важен. Ведь на почве подобных представлений и сложилась пифагорейская идея о «круговращении душ»! Наиболее ярко выраженное циклистское учение, впрочем, возникло в Элладе позже, было разработано философской школой стоиков. Именно на примере теории стоицизма легче всего понять, что такое циклизм как таковой. Концепция стоиков, стопроцентно циклистская, предполагала многократное — как в прошлом, так и в будущем — «вечное возвращение», полное повторение событий вплоть до мельчайших деталей.
Мир, согласно стоикам, уже бессчетное количество раз сгорал в пламени вселенского пожара, и бессчетное количество раз еще сгорит, а потом возродится снова и снова, причем в том же самом виде. История опять пройдет тот же самый путь. И вновь родится в Афинах Сократ, и вновь будет учить на улицах и площадях, и вновь будет браниться с ним его сварливая жена Ксантиппа, и вновь Сократа предадут суду, и приговорят к смерти, и философ выпьет поднесенную ему чашу цикуты… Как говорится, ничто не ново под луной. И изменить ничего нельзя: всё идет по плану, от века предначертанному судьбой. В размеренный распорядок этого мирового круговорота человек, как бы он ни старался, не властен внести ни малейшего отклонения; остается ему подчиняться. «Покорных рок ведет, влечет строптивого» (Сенека. Нравственные письма к Луцилию. 107. 11). Иными словами, хочешь не хочешь, а будешь делать, сам о том не подозревая, то, что тебе свыше предназначено делать. У тебя всегда будет сохраняться мнение, будто ты сам принимаешь решения, сам являешься хозяином своей судьбы, но это не более чем иллюзия.
Снова и снова убеждаемся: греческий духовный мир на самых разных уровнях находился в состоянии постоянного напряжения между двумя «полюсами». Между ними развертывался диалектический процесс «единства и борьбы противоположностей». Индивидуализм и коллективизм. «Гибрис» и «софросине». Аполлон и Дионис. Дерзание и пессимизм. Изменения и «вечное возвращение»…
А к архаической эпохе всё сказанное относится в какой-то совершенно особой степени. В это уникальное время одновременно развертывались два совершенно не похожих друг на друга процесса: и интеллектуальная революция, породившая философию и науку, и резкий всплеск мистицизма.
Для предыдущего этапа развития древнегреческого сознания, отразившегося в эпосе Гомера, особенно в «Илиаде», характерна в корне иная картина: практически полное отсутствие мистики в какой бы то ни было форме. Мало в мировой литературе книг менее мистических, чем та же «Илиада». Да, действие поэмы — некое грандиозное полотно, в котором участвуют и боги. Однако небожители и их жизнь изображены вообще без всякого оттенка туманной таинственности: гомеровские Зевс и Аполлон, Гера и Афина — просто образы людей, которым «ничто человеческое не чуждо» (но, конечно, людей неизмеримо более могущественных, чем земные смертные).
В «Илиаде» немало страшного, в «Одиссее», пожалуй, еще больше. В этом последнем произведении встречаются уже и сверхъестественные чудовища, вроде циклопов и сирен. Но даже и в сценах с их участием мы не ощущаем никакого особого мистицизма. Наверное, единственный эпизод «Одиссеи», где все-таки чувствуется некоторый налет мистического, — вызывание заглавным героем душ мертвых. Но не случайно именно эту часть поэмы часто и считают более поздней вставкой.