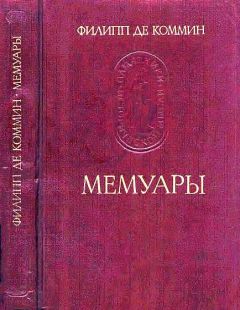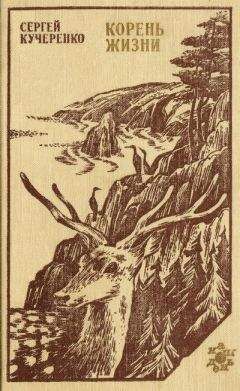В исторической перспективе политические идеи Коммина, особенно его концепции мудрости и государственной необходимости, стоят у истоков одного из наиболее влиятельных течений западной политической мысли, которое в XVI в. представляли такие крупные фигуры, как Макьявелли, Гвиччардини и Боден[715]. Это то течение, о котором К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Немецкой идеологии»: «…начиная с Макиавелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и других мыслителей нового времени, не говоря уже о более ранних, сила изображалась как основа права; тем самым теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали, и по сути дела был выдвинут лишь постулат самостоятельной трактовки политики» [716]. Возникшее в результате реалистического взгляда на вещи и обобщения политического и исторического опыта, оно решающим образом повлияло на собственно историческое мышление; освободив его от использования христианско-нравственных критериев, это течение в то же время направило его в русло рационалистического осмысления истории и сыграло немалую роль в том, что история с XVI в. стала историей политической по преимуществу.
Сознательный отказ от этического подхода к историко-политическим явлениям был реакцией на мышление средневековья, своего рода его антитезисом. Взгляды Коммина на методы политического управления отдают определенным аморализмом; из них проглядывает, хотя и невысказанное, пресловутое правило «цель оправдывает средства». И на это были свои причины. Накал политической борьбы, сопровождавшей становление централизованного государства, был столь велик, что королевская власть в лице Людовика XI и его сподвижников, к которым относился и Коммин, была самой логикой борьбы подведена к использованию этого правила. В идеологическом же аспекте эта борьба привела к возникновению во второй половине XV в. как бы идейного вакуума, поскольку старые этмко-политиче-ские понятия в глазах сторонников монархии обесценились, а новые, отвечающие зарождавшемуся в ту пору абсолютизму, находились на стадии становления. Все это создавало особо благоприятные условия для того, чтобы ориентироваться на практику и соотносить политические средства прямо с результатами их применения.
Все это не означает, что Коммин напрочь отказывался от нравственных оценок. Его понимание добра и зла в ту эпоху сохранявшегося господства богословия в интеллектуальной жизни неизбежно выливалось в понимание идеи бога. Эти взгляды Коммина представляют для нас тем больший интерес, что в них нашла свое отражение и его историческая концепция.
4. ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КОММИНА И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Чтобы определить этическую позицию Коммина, нужно выяснить его отношение к двум существовавшим тогда этическим системам – рыцарской и христианской. Рыцарская этика по отношению к христианской была до некоторой степени автономной этической системой, особенно в своих сугубо светских, наиболее существенных элементах, и в то же время смыкавшейся с христианской, которой она подчинялась и как бы получала от нее право на существование благодаря таким общим идеям, как справедливость и мир, поддержание которых вменялось в обязанность рыцарю. Главные нормы рыцарской этики (в литературе XV в. – честь, доблесть, храбрость, щедрость, куртуазность) не ставились в прямую зависимость от результатов деяний рыцаря, т. е. эти нормы были самодовлеющими и их соблюдение требовалось как в победах, так и в поражениях. «Добродетельно поступайте во всем, как и должны поступать, и тогда все – и победы и поражения – послужит вашей чести», «помните, что побеждать и терпеть поражение надлежит с честью» [717].
Рыцарская этика отвечала не столько цели защиты веры, мира и справедливости, «навязанной» ей христианством, сколько более конкретной цели – приобретения чести и славы, что, впрочем, могло совмещаться с борьбой за справедливость, но часто расходилось. Для многих рыцарских писателей слава была главным стимулом рыцарских деяний, защиту же справедливости они упускали из виду.
Здесь важно заметить, что рыцарская этика представляла для дворянина целую концепцию жизни, ибо она определяла и смысл жизни (завоевание славы), и ее нормы. Она воспринималась в качестве регулятора социальных отношений – но только внутриклассовых, между феодалами – и политических, поскольку короли были также рыцарями и на их поведение распространялись требования кодекса чести. Будучи столь всеобъемлющей, она выполняла в то же время и функцию исторической концепции [718]. Рыцарская историография, наиболее ярким представителем которой был Ж. Фруассар^ а в XV в. – Ж. Шатлен, О. де Ла Марш, Ж. Молине, Ж. д’Отон, видела в рыцарстве главную социальную силу и не находила ничего более достойного, как только описывать доблестные подвиги рыцарей во все времена, начиная с библейских, ибо всех героев древности, и мифических и исторических, причисляли к рыцарству. Даже описывая жестокость, алчность и другие проявления нерыцарских чувств своих героев, эти писатели не слишком хорошо сознавали противоречия между своими взглядами и реальностью, настолько высоко в их сознании стоял рыцарский идеал. И они верили, что только рыцарство может спасти и поддержать мир и справедливость.
Однако в XV в. в связи с упадком рыцарства как военно-политического института рыцарская этика стала быстро обесцениваться. В области военного дела и политики ее начали вытеснять прагматические нормы, и этот процесс отчетливо отразился в литературе той эпохи[719]. Наиболее законченное выражение он получил у Коммина, который вообще не придавал никакого значения ни рыцарству, ни рыцарским социально-политическим идеям. Его понятие чести, которое он все же иногда использует, почти полностью лишено нравственного содержания. Он его употребляет для одобрения успешных действий независимо от того, какими средствами достигается успех. Он не раз приводит своего рода поговорку «кто побеждает (или кта получает выгоду) – тому и честь». Причем приводит он ее всегда в форме скрытого спора со сторонниками рыцарской чести, как бы предвидя возможность критики его суждений. Так, например, он говорит о чести как следствии успеха, даже если он достигается благодаря дипломатическому шпионажу (I, 220). А если он иногда и прибегает к понятию чести в моральном смысле, то лишь для того, чтобы обвинить в бесчестии своих противников, как он это делает в отношении Карла Смелого, который, бежав с поля боя при Грансоне, «потерял и достояние, и честь, чего не случилось с королем Иоанном Французским, который храбро сражался и был взят в плен в битве при Пуатье» (II, 104-105).