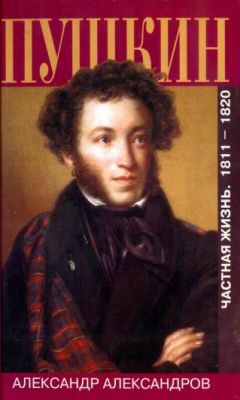Вскоре дома у Пушкиных стало невыносимо. Матушка разрешилась от бремени братцем, которого нарекли Платоном. В тесной для большой семьи квартире, в которой было всего семь комнат, постоянно раздавался детский плач, бегали мамки и нянюшки, а всем заправляла бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. Взрослое мужское население, Сергей Львович и Александр Сергеевич, уже выздоровевший, предпочитали почаще сбегать из дома, благо оба были людьми светскими. Левушка в то время был уже переведен из Благородного пансиона при Лицее в Благородный же пансион в Петербург при Главном педагогическом институте и жил там. Дома он бывал редко, хотя и присутствовал на крещении Платона и был его восприемником вместе с бабушкой.
В Пансионе педагогического института, куда поместили Левушку, служил гувернером и преподавал в младших классах русскую словесность Вильгельм Карлович Кюхельбекер, свой лицейский брат Кюхля. Жил он там же, в бельведере. Подростки души в нем не чаяли. Кюхля успевал работать гувернером, служить, вернее, числиться, как и Пушкин, в Коллегии иностранных дел, иметь несколько частных учеников и писать, писать с утра до вечера свои гекзаметры, а в свободное время носиться по редакциям журналов, устраивая в них стихи. Казалось, он успел везде напечататься и все редакции обойти. Он был принят во все литературные общества, знал все новости и, кажется, как подозревал по его намекам Пушкин, вступил в масонскую ложу. Кроме того, у него нашлось время заходить почти каждое утро, пока Пушкин болел, и докучать ему своими опусами.
Весть о четверной дуэли во время болезни принес Александру Кюхельбекер. Он был уже дружен с Грибоедовым, с которым у самого Пушкина была лишь холодная приязнь, и узнал подробности от него в тот же вечер. Об этой дуэли много и разное говорили в обществе. Кюхля бегал по комнате, взмахивал руками, а Александр в полосатом бухарском халате, который недавно приобрел, валялся на кровати, грыз по дурной привычке старое перо и слушал. Иногда Кюхля останавливался и, выпучив глаза, смотрел на Александра, как будто не узнавая и размышляя, кто это перед ним.
Потом вдруг сказал:
— Грибоедов будет стреляться с Якубовичем. У них дуэль только отложена. К тому же тот нехорошо говорит о нем.
— Что же нехорошо?
— Будто бы Грибоедов отказался стреляться сразу. Я не верю.
— Так, верно, нельзя было, — вслух подумал Александр. — Шереметев умирал. А в Якубовиче много романтического, мог и присочинить. Врет он мастерски. Я сам, когда вру женщинам, всегда его вспоминаю.
— А зачем же врать-то? Пусть даже и женщинам, — удивленно поморгав глазами, спросил Кюхля.
Он был так смешон, что Александр расхохотался своим заразительным смехом, переходящим в карканье.
Получив от доктора Лейтона заверения, что он совершенно здоров, Александр в этот же вечер явился в салон к княгине Голицыной. Встретил его, как обычно, высокий араб в чалме Луи. Луи Обенг, как уже знал Пушкин, был французский подданный, которого княгиня наняла в Париже. Русского языка он не знал и очень тосковал в Петербурге.
— Ну что, Луи, поедем в Париж? — привычно поддел его Александр.
— Поедем, господин Пушкин, поедем! — также привычно загорелся Луи.
— А здесь, что ли, плохо?!
— Россия! Стра-ашно! — закатил глаза Луи.
Пушкин расхохотался от всей души.
Авдотья Ивановна принимала в тот вечер всех, лежа на кушетке, в своей гостиной. Она куталась в длинную шаль с большими кистями и жаловалась на нездоровье. Александра она встретила радостно, протянула ему руку для поцелуя. Он прижался губами к ее горячей руке и почувствовал, как она чуть дрогнула. «Или мне показалось», — подумал он, поднимая на княгиню глаза.
— Что вы так надолго меня покинули? — поинтересовалась княгиня. Взгляд ее черных глаз был слегка насмешлив. — Верно, вам у меня скучно?
— Как может мне быть скучно у единственной умной и образованной женщины в Петербурге?! Я болел, княгиня.
Вслед за ним в салон явился Александр Иванович Тургенев, как всегда, с кучей светских новостей.
— Милейшая княгиня, прежде всего я должен, — говорил он, прижимая ее руку к своей груди, на правах старого друга имея право на такую вольность, — если до вас уже дошли слухи, оправдаться за князя Вяземского, который получил назначение в Варшаву. Он просит в последнем письме из Москвы нарочно съездить к вам. Он говорит, что эта Варшава будет для него Сибирью, если он заслужит ваш гнев. Он все тот же, поверьте мне княгиня, и не осуждайте его. Обстоятельства выше нас. Его чувства к России все те же!
— Я уже слышала про его назначение к Новосильцову, — печально сказала княгиня. — Мне жаль князя.
Все знали, как рьяно выступала княгиня против дарования государем конституции Польше в 1815 году, а теперь против тех проектов царя о присоединении к Королевству Польскому провинций, завоеванных ранее и принадлежащих России, о которых ходили упорные слухи, и вообще она была против хоть какой-нибудь самостоятельности поляков.
— Помяните мои слова: пройдет десять — пятнадцать лет и нам придется приступом брать взбунтовавшуюся Варшаву, — говорила она. — Я знаю заносчивость и гонор поляков.
Пушкин стоял в стороне, поглядывая на княгиню, потом отошел к клавесину, сел за него, постучал по клавишам, прислушиваясь к томным звукам.
А Александр Иванович уже рассказывал княгине и ее гостям, чем завершилась совершенно неприличная история князя Вяземского с неким Соковниным. Этот Соковнин, заметил Тургенев, воспитанник, как и Жуковский, Московского университетского благородного пансиона, имел несчастье влюбиться, как мальчишка, в жену князя Вяземского. Мало того, он посмел написать ей письмо, которое княгиня Вера Федоровна показала мужу. Ему было отказано от дома и решено на семейном совете не предавать дело огласке. В свете они встречались как ни в чем не бывало, соблюдая внешние приличия. Оно уже стало забываться, как вдруг, нынешней весной, на Никитском бульваре в Москве, где происходили главные ежедневные гулянья знати, Сергей Соковнин встречает княгиню и при всей публике бросается перед ней на колени, умоляя его простить за то, что он оскорбил ее своим письмом. Насилу княгине удается уйти от него. Через день, однако, история повторяется, — завидев княгиню на бульваре, Соковнин приближается и снова встает на колени. Коляски останавливаются, гуляющая любопытная публика толпится вокруг.
Вся эта история наделала такого шума в Москве, что несколько дней кряду более пятисот экипажей и толпы народа стояли по обе стороны бульвара, ожидая повторения любопытного зрелища. Но княгиня более не появлялась на бульваре, так как Соковнин дал ей клятву, что будет вставать на колени каждый раз при ее появлении. Вяземский обратился в письме к Тургеневу, тот побежал к Екатерине Андреевне Карамзиной, она — к императрице, дело дошло до императора. Соковнина взяли под стражу, долго решали, сумасшедший ли он, наконец военный генерал-губернатор Москвы граф Тормасов взял на себя смелость не найти его довольно виновным для помещения в сумасшедший дом. Соковнин избежал сего наказания и был отправлен в Феодосию заштатным членом губернского правления под присмотр местного градоначальника.