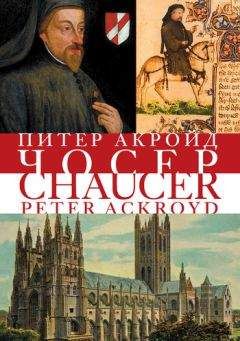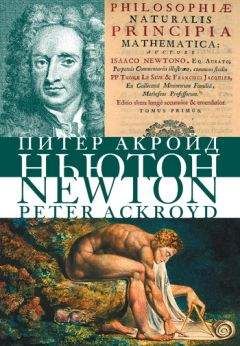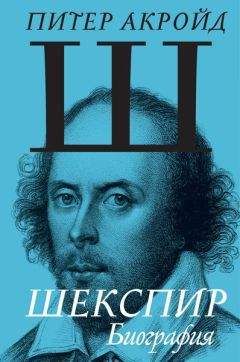Уже в период работы над поэмой Чосер начал переводить “Утешение философией” римского философа VI века Боэция, трактат о том, что такое судьба, одно из тех произведений, значение которого для средневековой мысли трудно переоценить. Особенно увлекся им XIV век, хотя еще король Альфред, живший пятью веками ранее, переводил Боэция. Для Чосера же трактат этот, по всей видимости, имел и какой-то сугубо личный смысл. Главная идея трактата состоит в пропаганде философии как единственного убежища, спасающего от обманчивых, предательских радостей, которые сулит “слепая богиня Фортуна”, текст же его был написан в тюремной камере, где Боэций, служивший при царском дворе, ожидал смерти. Трактат полон горечи, скорби и глубокой личной обиды. Лишь усвоив умиротворяюще мудрые заповеди философии, мы избегнем “стремительного натиска и тягот” жизненных обстоятельств, предлагаемых нами “вечно вращающимся колесом Фортуны”.
Философское правило “Ни на что не надейся, ничего не страшись” тоже кажется весьма разумным человеку темперамента Чосера, спокойному и даже пассивному. По отношению к окружающему его миру он проявляет своего рода фатализм, почему ему и приходится по душе трактат, рекомендующий проявлять contemptus mundi, спокойное и устойчивое презрение ко всему мирскому, готовящему нам неизбежные испытания разочарованием и потерями. Возможно, Чосер полагал, что не достиг того, на что мог надеяться и чего желал в области карьеры, а может быть, он добровольно жертвовал этой карьерой ради своего призвания поэта. Как бы то ни было, он с готовностью и даже радостью отвергает притязания “восхитительного чудовища Фортуны”. Дороже душевное спокойствие и способность быть самим собой. Далее следуют рассуждения об относительности человеческой свободы в соотношении ее с Божьим промыслом, что являлось одной из центральных проблем теологической мысли XIV века. Ко времени Чосера проблема эта решалась в духе, наиболее благоприятном для поэта и созвучном ему. Божий промысел – есть план всего сущего в том виде, как оно было измыслено Творцом, для которого не существует того, что мы именуем “время”. Свобода воли же действует там, где извечный план претворяется через явления изменчивого мира, подвластного категории времени. Создается философский эквивалент некоего обоюдоострого меча.
Язык Боэция оказал влияние на средства выражения Чосера, что мы видим и в его коротких стихах этого периода, и в особенности в более крупном произведении – басне “Паламон и Арсита”, над которой он тогда работал и которая впоследствии превратилась в “Рассказ Рыцаря” из “Кентерберийских рассказов”, так что справедливо будет отметить влияние Боэция как устойчивое и проявившееся также в позднем творчестве поэта. Однако период ранних 80-х годов можно впрямую назвать философским периодом Чосера. В “Троиле и Хризеиде” он прямо употребляет лексику, почерпнутую из Боэция. Такова речь Троила о “необходимости” и “вечном присутствии божества”. Великолепный стихотворный монолог прерывает появление Пандара, носителя иной мудрости – мудрости житейской. В этой связи примечательны гибкость и живость языка и интонации “Троила и Хризеиды”, их изменчивость. Они вобрали в себя и унаследовали элементы саксонской речи и стилистическую традицию романных повествований, сочетая их так естественно, что становилась возможной любая форма их объединения и игры ими.
Стилевые отличия обычной разговорной речи и высказываний на публику составляют заметную часть содержания поэмы, так как сюжет в ней развивается с помощью речей, не всегда правдивых. Тут нельзя не вспомнить, что и придворная карьера Чосера развивалась и оказывалась успешной во многом благодаря его мастерству оратора, речам, от которых требовалась уклончивость и, в то же время, убедительность наряду с галантной учтивостью. Чосер обладал умением создавать иную реальность, якобы неподвластную грубым велениям долга, верности королю и коммерческой выгоде. Текст поэмы изобилует словами лживыми и пустыми, которые следовало бы пропускать мимо ушей. Такие слова способны очаровывать, и они опасны. Хризеида заявляет, что “прелесть черт [ее] Троила очарует”, но и про него говорится, что он способен чаровать, правда, уже словесно, так что красавица “падет от сладости его речей”. “Троил и Хризеида” – это драматическое столкновение двух лицемерий. Поэма описывает мир, ставящий во главу угла этикет и неукоснительное соблюдение внешних приличий, в то время как все главное, происходящее втайне, подспудно, sub rosa, или, используя средневековое выражение, “под большим пальцем”, остается незамеченным.
Ты знаешь тайные пружины всех вещей,
От коих прочие в смущенье пребывают…
Когда за личиной слов и поступков проступает истина, чосеровские герои чувствуют смущение, они краснеют или застывают – “хранят недвижность камня”.
Этот упор на слова, в отличие от “тайной пружины всех вещей”, делает весомым мнение, что поэма “Троил и Хризеида” предназначалась для публичной декламации.
Некоторые места в тексте могут служить подтверждением, в особенности те, что намекают на слушателей, присутствующих при чтении:
Что жарче у костра,
То знает все собранье.
О каком “собранье” речь? Что иное может здесь подразумеваться, как не публика, те, кому поэт читает свое творение? И вновь он обращается непосредственно к своим слушателям:
По правде, никогда не слышал я
Исторью эту, да u вам самим
Неведома она…
Двойственность адресовки открывает автору неисчислимые возможности для игры. Не раз отмечались многосоставность содержания поэмы, множественность заключенных в ней пластов двусмысленной иронии, не позволяющей свести ее смысл к какой-то одной идее и допускающей массу толкований и интерпретаций. Но если воспринимать текст как предназначенный для устного чтения, для игры, представления, то трудности интерпретации во многом снимаются. Речи Хризеиды и Пандара туманны и расплывчаты по определению – ведь истинные чувства свои они скрывают, но хороший актер способен вдохнуть в них жизнь. Надо полагать, что Чосер являлся именно таким актером. Он актерствовал и в жизни, играя роли дипломата и посредника, и, должно быть, читая, тоже использовал свое умение.
Он мог разыгрывать “Троила и Хризеиду” перед придворной публикой, но мог выступать с чтением своей поэмы и перед простыми горожанами. Каждый год городское купечество отмечало праздник, называвшийся на французский лад “пюи”, во время которого устраивалось своеобразное состязание в ораторском искусстве, – жанр, популярный в Средневековье, имевший сходство с дебатами в королевских судебных иннах. Считается, что такие состязания положили начало тюдоровской драме. На этих популярных общественных сборищах хорошо смотрится и фигура Чосера. Возможно, участием его в них объясняется и посвящение поэмы Джону Гауэру и Ральфу Строуду. И тот и другой имели судейские полномочия и принадлежали к так называемой городской аристократии.
Но оснований делать точные выводы мы не имеем. К тому же в “Троиле и Хризеиде” есть отсылки, свидетельствующие и о книжном предназначении поэмы, адресованной одинокому внимательному читателю:
Читатель мой, способен ты понять
То горе, что язык не в силах передать.
В тот же период Чосер создает короткое стихотворное обращение к переписчику по имени Адам:
Писцу Адаму ежели случится
Поэму эту вновь переписать,
Советую не торопиться
И быть внимательным к словам,
Коли по шее получить боится.
Поэт здесь сетует на ошибки и невыверенность рукописных копий, сделанных неким Адамом так небрежно, что их приходится “подчищать”, дабы придать им надлежащий вид. Таким образом, мы получаем еще одно свидетельство того, что “Троил и Хризеида” распространялась в списках и текст поэмы предназначался не только для декламации перед публикой, но и для вдумчивого чтения. Здесь, как и во многих других отношениях, Чосер пребывает в двух ипостасях, находясь как бы в промежуточном состоянии между двумя различными сферами: с одной стороны, он – придворный поэт, читающий свои произведения в вечереющем саду, с другой – скромный служитель литературы.
И совершенно естественно и неизбежно вновь обратиться здесь к картинке на фронтисписе в одном из изданий “Троила и Хризеиды” – поэт, на подобном кафедре возвышении, выступает перед благородной публикой, и это похоже на проповедь. Чосер здесь и серьезен, и в то же время занят игрой, то есть воплощает некий излюбленный им контраст – красноречие как способ дать нравственный урок, в котором форма не менее важна, чем содержание. Высказывалась мысль, что две фигуры перед украшенным возвышением исполняют мимическую сцену, иллюстрирующую описываемые Чосером события, – интересное соображение, выдвигающее новую возможную деталь выступления поэта. Но публика главным образом поглощена звучащим словом, объединенная общим действом, протекающим по собственным законам, а также общими чувствами, надеждами и переживаниями. Поэт обращается к собравшимся перед ним и завладевает их вниманием. Его стихи, как говорил сам Чосер, “заставят их краснеть иль погружаться в мечтанья”. Временами тон его бесстрастен, временами – вдохновенно красноречив и демонстрирует незаурядное ораторское мастерство, а потом он вдруг спускается с котурнов – и перед слушателями простой и близкий им человек; он может пошутить, рассказать забавный анекдот, позволить себе хитрый намек; теперь это не безличный оратор, а просто Джеффри Чосер, чьи особенности и слабости хорошо известны некоторым из присутствующих. Существует ряд тактических приемов и тонкостей, которые тоже могли им использоваться. Возможно, он перевоплощался в другое лицо с помощью мимики или жеста, опровергал сказанное, снижая эффект и меняя ожидаемое впечатление. Вот почему, как оказалось, совершенно невозможно дать раз и навсегда определенное истолкование написанных Чосером текстов: каждый исследователь и критик имеет на этот счет свою теорию. Не будь актера, исполнителя, в чем был бы смысл текстов? И к чему критическое истолкование, исследование, когда стихи являют себя каждый раз по-разному, свежо и неожиданно?