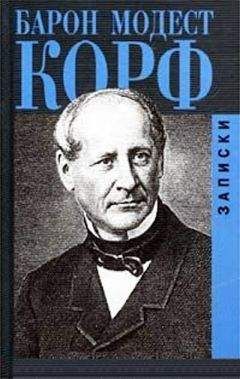Я имел счастье сделаться лично известным императору Николаю по законодательным работам во II отделении Собственной его величества канцелярии, на которые он обращал в первое время такое заботливое внимание, что ему подавались еженедельно подробные ведомости о занятиях каждого из чиновников отделения поименно. Быв пожалован за сии работы, в один и тот же день, в коллежские советники, в звание камергера и значительным денежным награждением, я впервые представлялся его величеству на Елагином острову в июле 1827 года и могу сказать, что с самой этой минуты при каждом свидании, при каждом случае к награде государь не переставал осыпать меня милостями и ласками, а позже осчастливил меня и частыми знаками высокого, особого доверия. В длинный ряд следовавших за тем лет его царствования, состояв с 1831 года управляющим делами Комитета министров и с 1834 года государственным секретарем — следственно, в должностях, самых приближенных к особе монарха, — я только один раз имел несчастье подпасть его гневу, и вот по какому случаю.
В первых днях мая 1838 года государь предполагал отправиться за границу, а между тем, 22 апреля окончено было в Государственном Совете рассмотрение огромного проекта учреждений местных управлений государственных имуществ, внесенного министром (тогда еще не графом) Киселевым. Как при поступлении этого дела, а именно 25 марта, председатель граф Новосильцев объявил мне высочайшую волю о рассмотрении его в Совете сколь можно поспешнее, то оно и было окончено, при всей его обширности, менее нежели в месяц, и все эти обстоятельства, представляя 26 апреля государю проект, я изложил в приложенной от меня докладной записке.
Но вместо ожиданного изъявления удовольствия за такую быстроту на другой день возвратилась от государя одна моя докладная записка, с следующей собственноручной его надписью: «Вы забыли, кажется, что я привык читать, а не просматривать присылаемые бумаги, и для того приказал, чтоб все ведомства прислали мне все важные бумаги не позже 15-го апреля, дабы успеть прочесть; вам следовало то же исполнить, ежели же сего невозможно было, то испросить повеление, что делать с сим положением, когда оно будет готово: ибо мне нет никакой возможности его читать за близким отъездом».
Упрек обожаемого государя поразил меня тем более, что я в глазах его являлся тут как бы не исполнившим его волю, и за тем, хотя с уверенностью в своей безвинности, но с стесненным сердцем, я тотчас отвечал следующей запиской.
«Вследствие сей час полученного мною высочайшего вашего императорского величества повеления осмеливаюсь всеподданнейше донести:
1) Высочайшая воля, чтобы все важные бумаги поднесены были вашему величеству не позже 15-го апреля, никем мне объявлена не была, и я узнал о ней впервые из последовавшей сегодня на всеподданнейшей моей записке высочайшей резолюции.
2) Генерал Киселев в подносимом у сего письма от 25-го апреля[18] уведомил меня, напротив, что ваше величество ожидать изволите представление его проекта для сколь можно скорого прочтения до отъезда. Посему, поднеся тот проект тотчас на другой день, я думал в точности исполнить священную волю вашего величества».
И что же? Тот самый Николай, которого невежественные иностранцы и злонамеренные крикуны старались всегда изображать таким непогрешимым и неподвижным в изъявлениях своей воли, возвратил мне эту объяснительную записку в ту же минуту с следующей новой надписью:
«Ежели так, то вы не виноваты, ибо приказание до вас не дошло, видно, по ошибке. Положение сие, по огромности, требует много времени для прочтения, и я никак не надеюсь прочесть до отъезда, ибо и без того дел много, и возьму с собой и пришлю, когда будет можно».
При этом еще замечу один знак нежной внимательности государя: записки мои с его надписями, и первая и вторая, были высланы мне не через 1-е отделение Собственной канцелярии, как в делах Совета всегда без изъятия делалось, а прямо в собственные руки, с его фельдъегерем. Государь явно изъявил этим волю свою оставить дело, так сказать, домашним и тайной между нами двумя. Подобные черты драгоценны для историка!
За всем тем это дело, начавшееся так для меня худо, хотя и без моей вины, должно было окончиться еще хуже, и на этот раз, к несчастью, уже прямо по моей вине.
Упомянутый выше проект, или, лучше сказать, целое собрание проектов, содержал в себе около 800 листов, и не видя, при страшной поспешности, никакого средства переписать их, по сделанным со стороны Совета поправкам и переменам, в маленькой государственной канцелярии, я просил Киселева возложить это на многочисленных его чиновников, но с тем, чтобы они приняли уже на себя и всю ответственность за верность переписки: ибо даже перечитать и проверить все эти огромные фолианты мне, среди множества других, тоже спешных занятий, не было никакой возможности. Киселев обещал исполнить это со всею точностью, а правителю его канцелярии при отдаче ему бумаг я повторил еще раз, что верность переписки обратится на личную и непосредственную его ответственность. Таким образом, будучи успокоен в этом отношении и получив переписанные проекты обратно лишь за два дня до поднесения их государю, когда нельзя уже было и помышлять о какой-нибудь поверке с моей стороны, я отправил их не читавши. Но государь, еще до своего отъезда, успел прочесть все и высылал мне тетради постепенно, с собственноручными поправками замеченных описок, которых было немало; наконец 1 мая, накануне выезда из Петербурга, он возвратил мне и последнюю тетрадь с надписью: «Много описок; кто поверял столь небрежно, посадить на сутки на гауптвахту».
Что было мне делать по этой резолюции, мне, который в звании государственного секретаря, ответственного за все, что происходит и делается в канцелярии Совета, хотя бы и другими, чувствовал и сознавал вполне свою вину в этом случае? Я поехал к графу Васильчикову, только за три недели перед тем, по смерти Новосильцева, назначенному председателем Совета; объяснил ему весь ход дела и просил довести до сведения государя, что в государственной канцелярии нет и не может быть никого виноватого, кроме одного меня; почему я и ожидаю дальнейших повелений его величества на мой счет. Граф в ту же минуту сам отправился к государю и вот что потом мне передал: государь крайне разгневан. Он не хотел принять никаких оправданий спешностию дела и множеством других проектов, также важных, которые были поднесены ему на этой же неделе и где не нашлось ни одной описки.
— Если Корф, — сказал он, — не успел приготовить и прочесть бумаг как следовало, то должен был мне донести, и я дал бы ему отсрочку, а в таком виде бумаг мне не представляют. Я люблю Корфа без души и сам его вывел, с ним никогда этого не случалось, а видно, он теперь подумал, что за скорым отъездом я только прогляжу бумаги и не стану их читать. Я доказал ему противное. Но именно потому, что этого никогда с ним не случалось, надо принять меры, чтоб это было и в первый и в последний раз.