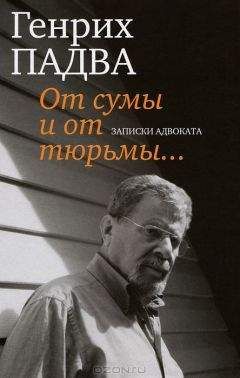У них обоих нашлись для нас, выпускников, теплые напутственные слова. Но вдруг среди этих обычных, традиционных пожеланий большого светлого нуги тем, кто выходит в жизнь из стен школы, Яншин начал говорить такое, что я просто испугался за него. Среди нас ведь были дети весьма высокопоставленных партийных и советских работников… А он говорил о том, что до революции мечтал стать инженером, но случилось, как он выразился, это несчастье в 17-м году — это он так про революцию! На дворе был конец сороковых, в Кремле сидел Сталин, а этот человек открыто ругал советскую власть. Наговорил он тогда много, и наши попытки свернуть его на безобидную футбольную тему увенчались успехом далеко не сразу. Наконец мы расстались, но я с ужасом ждал, что же будет. К чести наших одноклассников, доноса, видимо, не последовало.
После окончания школы нас разбросало в разные институты. Толя сразу же поступил в Московский авиационный институт. Лева не сразу, но все же поступил в историко-архивный, но архивистом не стал, а довольно успешно работал музыкальным критиком. Алешка закончил и Московский университет, искусствоведческое отделение истфака, и консерваторию по классу композиции. А я, после некоторых мытарств, закончил юридический.
После школы я поступал в Московский юридический институт — и не поступил: не слишком хорошо сдал экзамены, кроме того, был евреем и не был комсомольцем. Второе, кстати, не имело политической подоплеки — я был хулиганом, и меня в ВЛКСМ попросту не приняли. К тому же и лет мне было всего 17, а в юридический тогда неохотно принимали недорослей.
А вот на следующий год, когда я снова предпринял попытку, у меня появилась возможность с полученными на вступительных экзаменах баллами поступить в Минский юридический институт, где был недобор. Так я оказался в столице Белоруссии.
Это был мой первый опыт самостоятельной жизни, но я к ней удивительно легко адаптировался. Места в общежитии мне и еще ряду моих товарищей не досталось, и мы снимали комнаты в частных домах. Со мной в одной комнате весь год жил Володя Иванов — красивый, яркий блондин, с великолепной золотой шевелюрой. Он был гармонистом, и его довольно сильная хромота не мешала ему быть «первым парнем на деревне». Я знаю, что после окончания института он остался работать в Минске следователем, но потом его следы затерялись. Помню хорошо Зорика Азгура — он стал впоследствии хорошим адвокатом, вел автодорожные дела. Однажды Зорик приезжал в Москву, мы встречались. Приятно было увидеть его и вспомнить о времени совместной учебы.
Студенческая жизнь, как и бывает обычно, давала новый, самый разнообразный и неожиданный жизненный опыт. Помню, как однажды я заболел ангиной.
И завкафедрой физкультуры посоветовал мне купить водку, развести в ней соль, горчицу, перец и выпить на ночь — мол, утром будешь здоров! Я так и сделал, и действительно проснулся без боли в горле, но очень слабеньким. На следующий же день был совершенно здоров. Этот способ лечения я несколько раз в жизни потом пытался повторить, но не всегда с успехом.
В Минске я превратился в другого человека: вступил в комсомол, стал активным общественником, начал отлично учиться. Увлекся спортом: занимался бегом, играл в настольный теннис, получал спортивные разряды. Помню, как в декабре в честь дня рождения Сталина на улицах Минска проводились спортивные мероприятия. Я выступал за команду нашего института — без достаточной подготовки, первый раз в жизни бежал эстафету. По неопытности я не рассчитал свои силы и быстро выдохся. Но эта неудача меня не обескуражила, я продолжал заниматься в спортивных секциях.
Еще я вовсю участвовал в самодеятельности: играл в спектаклях, читал стихи. С нами тогда занимался артист минского театра — я именно от него впервые услышал неофициальную версию гибели Михоэлса: по существу, по его словам, это было убийство.
Комсомольцем я тоже стал активным, можно сказать, неожиданно для самого себя. Меня почти сразу избрали в курсовое бюро ВЛКСМ. Кроме того, я сделался главным редактором институтской газеты, которая называлась БОКС — Боевой Орган Комсомольской Сатиры. Для этой газеты я и рисовал, и писал обличительные статьи, и сочинял стихи.
Спортсмен изрядный из него
Мог выйти бы, ей-ей,
Когда бы форму приобрел
И пару тапок к ней.
Это гениальное стихотворение я сочинил про одного нашего товарища, который, обладая незаурядными физическими данными, тем не менее, манкировал занятиями спортом. Что же касается моего поэтического дара, то по этим строкам можно судить о нем довольно верно!
Учился я с удовольствием и убедился, что выбор мой был правильным, ибо юриспруденция интересовала меня все больше и больше. Казалось бы, все было прекрасно. Меня окружали друзья, случались и мимолетные увлечения, но меня угнетала мысль о том, что нахожусь я как будто в ссылке: все мои родные и близкие продолжают жить в столице, в родном, любимом мною городе, а я — на чужбине. И хоть я полюбил Минск, полюбил белорусов, но все равно тосковал по Москве. Было ощущение, что мое пребывание в Минске являлось чем-то насильственным, и мечта вернуться домой не оставляла меня ни на минуту.
Как-то раз, опаздывая на лекцию, я столкнулся в коридоре с хорошенькой студенткой, которую только видел несколько раз, но не был даже с ней толком знаком. Неожиданно она меня остановила и, зардевшись, прижимая кулачки к полыхающим щекам, пролепетала:
— Давайте с вами дружить.
Я ужасно смутился, готов был провалиться сквозь землю и совершенно не знал, что делать и что говорить. Поняв мое замешательство, она убежала в слезах. Наши последующие случайные встречи были мучительны для обоих: она смущалась, отводила в сторону глаза, я намеревался заговорить, но не находил слов.
Как же, оказывается, неловко бывает выслушивать неожиданные признания даже не в любви, а в симпатии, с предложением всего лишь дружбы, как трудно найти ответные слова! Бедный Онегин, подумалось мне. Каково было ему нежданно-негаданно услышать девичий крик души, наивный, чистый, но в то же время требовательный и призывный?! В учебниках по литературе нам, школьникам, «образ Онегина» преподносился как бесчувственный, холодный и рассудочный — на фоне идеализированной Татьяны.
Но теперь ответ Онегина на ее неожиданное признание я уже понимал по-другому — как искренний и честный:
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас…
А что еще может сказать мужчина влюбленной наивной девушке, если в его душе нет ответного чувства? Если это признание не было естественным завершением их взаимной симпатии, их личных взаимоотношений? Мне открылось с несомненностью, что инициатива в любовных признаниях со стороны женщин создает лишь неловкость и смущение.