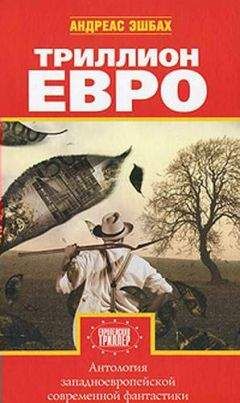Из гостя Бородин скоро превратился в хозяина. У Зинина было бесконечное количество всяких дел. Много времени проводить в лаборатории ему не удавалось. Но когда он забегал туда по пути из аудитории в канцелярию или в зал заседаний, для участия в Конференции, — он всегда заставал своего молодого ученика за перегонкой, выпариванием, фильтрованием.
Наконец наступил тот день, когда Бородин был приглашен «в святилище науки» — в домашнюю лабораторию Зинина, о которой он до того знал только понаслышке. Бородин оставил нам живое и красочное описание зининской лаборатории:
«Это была крохотная комнатка при его частной квартире на Петербургской стороне. Уставленная разнокалиберными простыми столиками, она была загромождена сверху донизу. Чего только тут не было! Все углы, пол, столы, окна завалены были, по обыкновению, книгами, журналами, образцами товаров, минералами, бутылями, кирпичами, битыми оконными стеклами, канцелярскими бумагами и пр. Все столы были уставлены сплошь примитивной химической посудой всякого рода, с обрывочками цедильной бумаги под нею; на таких обрывочках покойный имел обыкновение записывать карандашом свои заметки и результаты опытов. Тут же стояли разные самодельные приборы, составленные из всевозможных трубочек, шнурочков, пробочек, аптекарских баночек и коробочек, — импровизированные стативы, и, как контраст, необходимые предметы научной роскоши: Эртлинговские весы, микроскоп Шика, спиртовая печь Гесса для органического анализа, эолипил, заменявший собою паяльный стол. Тут же были банки с мелкими животными в спирту, восковые ванночки, инструменты для препарования — свидетели, что в H. Н. не остыла еще страсть к сравнительной анатомии, которой он по временам отдавал свои досуги и мимоходом учил своих учеников. Роль тягового шкафа исполняла обыкновенная голландская печь и, нужно сказать правду, исполняла плохо».
«Казалось, на столах не было места, куда приткнуть маленькую пробирку; тем не менее, по воле хозяина, всегда отыскивалось место еще для новых подобных приборов и банок».
«Ничья рука не имела права нарушать порядка в этом беспорядке. И в такой-то архаической обстановке покойный делал те изящные и поразительно точные исследования, которые открыли ему с почетом двери в европейские академии и поставили его имя наряду с крупнейшими именами западных химиков!»
«В это святилище науки допускались, впрочем, ученики, когда им нужно было делать сжигания, точные определения и т. д. Прийти к H. Н. делать анализ, значило по-приятельски пообедать с ним, напиться чаю и, кроме драгоценных указаний касательно анализа, вынести мимоходом кучу сведений по химии, физике, зоологии, сравнительной анатомии, математике и т. д. — сведений, которых порой нельзя было почерпнуть ни в одном из учебников».
Зинин был человек проницательный. Он очень скоро понял, что ученик его отличается необыкновенными способностями и что химия для него не случайное увлечение, а дело жизни. Сама судьба послала ему этого юношу, в котором он все больше привыкал видеть своего будущего преемника, своего духовного сына и наследника.
Но где любовь, там редко обходится без ревности. А у Зинина были основания ревновать своего юного ученика и друга.
Глава седьмая
О МУЗЫКЕ И О ДВУХ ЗАЙЦАХ
Заходя в лабораторию, Зинин все чаще, к великому огорчению своему, убеждался в том, что ученика его нет на месте. Черный лак стола покрывала серым налетом пыль. Собранные для опыта приборы, казалось, говорили: «Мы забыты».
Давно ли студент Александр Бородин впервые пришел в эту лабораторию и, краснея, как девушка, попросил разрешения здесь работать? И вот уже без него в лаборатории пусто и неуютно.
А Бородин в это время шагает через весь город с Выборгской стороны в Коломну, неся с собой виолончель или флейту. Рядом с ним его неизменный спутник Миша Щиглев со скрипкой под мышкой.
Вот как вспоминал об этом Щиглев:
«Мы не упускали никакого случая поиграть трио или квартет где бы то ни было и с кем бы то ни было. Ни непогода, ни дождь, ни слякоть — ничто нас не удерживало; и я со скрипкой подмышкой, а Бородин с виолончелью в байковом мешке на спине делали иногда громадные концы пешком, например, с Выборгской в Коломну, так как денег у нас не было ни гроша».
А Стасов рассказывает:
«Из этого периода жизни Бородина близкие ему люди помнят немало очень характерных анекдотов.
Так, например, возвращался однажды Бородин со своим другом Щиглевым ночью домой. Темень была страшная, фонари еле-еле мерцали по Петербургской стороне лишь кое-где. Вдруг Щиглева поразил какой-то неопределенный шум, и шаги Бородина, шедшего впереди, перестали раздаваться. Но вслед за тем он услыхал у себя под ногами звуки флейты. Оказалось, что Бородин слетел в подвал лавки и, испугавшись за свою флейту, которая вылетела из ящика, бывшего у него подмышкой, мгновенно поднял ее и начал пробовать, цела ли она».
Чаще всего музыкальные собрания происходили у Ивана Ивановича Гаврушкевича, страстного любителя камерной музыки. В маленьком деревянном домике на Артиллерийском плацу встречались по вечерам профессиональные скрипачи и виолончелисты из оперного оркестра и такие же дилетанты, как Бородин.
Через тридцать лет Бородин с большой любовью вспоминал об этих вечерах. Он писал своему старому другу Гаврушкевичу:
«Душевно благодарен Вам за добрую память о Вашем покорном слуге, который много виноват перед Вами, что так поздно откликается на Ваше милое письмо. Не мало радует меня, что Вы нисколько не изменяетесь, сохранили Вашу свежесть, юмор, горячую любовь к музыке и даже силы играть на виолончели, что дело не легкое! Я давно бросил играть: во-первых, потому что всегда играл пакостно и Вы только по милому благодушию Вашему терпели меня в ансамбле, — что правда, то правда! — во-вторых, потому что отвлечен был другими занятиями, даже на поприще музыкальном, где оказался пригоднее в качестве композитора».
Дальше Бородин пишет о своей работе на композиторском поприще и заканчивает письмо так: «Я очень часто и весьма тепло вспоминаю Вас, уважаемый Иван Иванович, о Ваших вечерах, которые я так любил и которые были для меня серьезной и хорошей школой, как всегда бывает серьезная камерная музыка! С благодарностью вспоминаю я о Ваших вечерах и с удовольствием вспоминаю о Ваших пельменях, которые мы запивали «епископом», как Вы оригинально обозвали бишоп[5]». И Бородин подписывает письмо: «Неизменно душевно преданный Вам — скверный Violoncelo secondo[6]».
А вот как вспоминал об этих вечерах сам Гаврушкевич: «Бородин только слушал, а если не было виолончелиста Дробиша, то участвовал в квинтетах, в партии второй виолончели. Он слабо владел виолончельною техникой, но был тверд в темпе и живо схватывал красоты гармонические и мелодические. С любопытством и юношескою впечатлительностью слушал А. П. Бородин квинтеты Боккерини, с удивлением — Онслова, с любовью — Гебеля. У Гебеля он находил влияние русской Москвы. Немцы не любили этого немца за то, что от него пахло Русью. На моих собраниях А. П. Бородин являлся благодушнейшим юмористом, человеком сдержанным, сосредоточенным…»