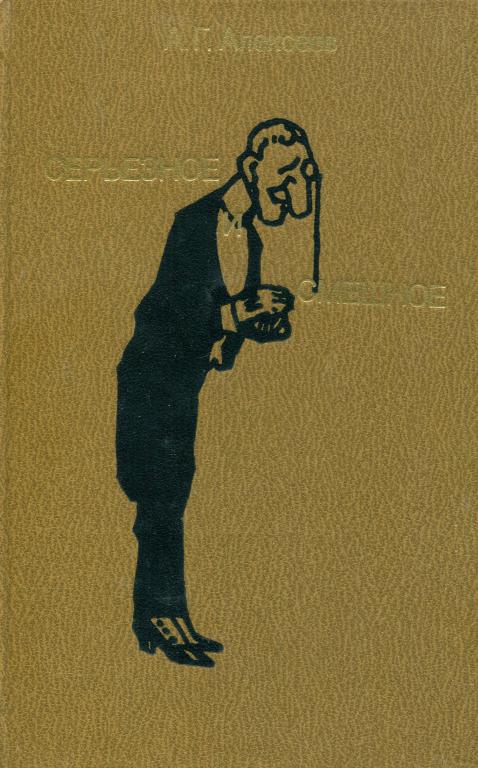по справедливости надо сказать, что иные нынешние зарубежные исполнители и исполнительницы, которым порой подражают наши певцы и певицы, ничуть не скромнее своих предков из «Pavillon de Paris»!
Певицы делились тогда у французов на три жанра: cantatrice — это певица как таковая, diseuse à voix — не певица, а исполнительница, но с голосом, и просто diseuse — это исполнительница, у которой голоса для пения нет, но есть большая выразительность. Была еще разновидность — chanteuse — у этих не было ничего, кроме манерничанья, фривольности, пикантности, эротичности; этих у нас в России называли просто шансонетками.
К нам в театр приезжали из Парижа представительницы жанра diseuse à voix. Не помню их фамилий, но это были прекрасные актрисы. Исполняли они лирические и комические песенки и главным образом, уступая духу времени, военные патриотические песни. В памяти у меня остались обрывки многих из них. Вот, например, куплет из очень популярной тогда традиционной для французов песни о солдате и маркитантке:
La Madelon pour nous n’est pas sévère —
Quand on lui prend la taille, le menton,
Elle rit, c’est tout l’mal qu’elle sait faire,
Madelon, Madelon, Madelon!
Я тогда же перевел ее и перед исполнением читал публике русский текст:
Коль Маделон обнять иль ущипнуть,
Она смеется — ей какой урон?!
И на нас не сердится ничуть
Маделон, Маделон, Маделон!
А дизеры — мужчины! У этих не было и намека на голос, но какое мастерство! Все у них весело, легко, музыкально и остроумно. Француз Каржоль появлялся на сцене в измятой красновато-розовой солдатской форме: штаны-галифе, мундир и кепи. Нос картошкой, плутовская усмешка — это был французский Швейк! Но песни он пел отнюдь не добродушные: быт, злой, грубый, тяжелый солдатский быт рисовал он, иронически воспевая его:
Пусть даже мясо — как булыжник,
Переварит все солдат!..
И вдруг «на бис» — нечто невообразимо неприличное про канарейку в клетке…
Еще один француз — Мильтон. Позже он приезжал и в Москву. Маленький, толстенький, упругий, как мячик, он смешил одним своим появлением на сцене. Коронным номером его были квазиимитации. Он пел какие-то коротенькие куплеты, почти набор слов, и прелесть была в том, что между куплетами он показывал портреты разных артистов, политических деятелей, писателей, художников — и все это при помощи… носового платка! Вот он спел куплетик, затем приложил к голове платок наподобие треуголки и наивно-радостно говорит:
— Наполеон!
И сейчас же спрашивает:
— Pas bon? (Разве не хорошо?)
Затем очередной куплет — и платок изображает глубокое декольте, Мильтон кричит:
— Саррра Берррнаррр!
И огорчается:
— Pas bon? (Неужели и это не хорошо?)
Потом Мильтон хитро смотрит на меня (я стою у кулисы), делает из платка длинную бороду и, приложив ее к подбородку, восторженно кричит:
— Алексеефффф!
И тут же сам орет, смеясь:
— Pas bon! Нет корошо! Нет корошо!!!
И начинает танцевать эксцентрический танец. Успех он имел огромный, бисировал без конца.
Однажды произошел такой случай. После трех или четырех его бисов какая-то тонная дама с девочкой-подростком решила уйти. Сидели они в третьем ряду, и мамаша, не считая нужным церемониться с артистом, прошла с девочкой по проходу между сценой и первым рядом в то время, когда Мильтон начал новую песню. Мильтон обозлился, и когда они поравнялись с ним, он, продолжая петь, пошел вдоль рампы за ними, смешно имитируя походку девочки. Зал захохотал и зааплодировал, а девочка от смущения упала в обморок.
Мамаша устремилась в администраторскую и потребовала, чтобы дирекция выгнала «этого невоспитанного артиста», но тут ворвался Мильтон с женой, и они стали со всем своим французским темпераментом доказывать, что плохо воспитана она, дама, а не он: во время пения шла, да еще перед самой сценой! Что тут было! Дама и Мильтон кричали друг на друга по-французски, жена Мильтона вопила по-русски:
— Свиство! Нет можно мешайт! Свиство!
Девочка ревела, а зрители, набившиеся в контору, разделились на два лагеря и орали на двух языках, а я в уголочке умирал от смеха… Мильтона мы, конечно, в обиду не дали.
«Импортными» номерами, как я уже говорил, заведовал директор, я же стал приглашать лучшие русские концертные номера и артистов петроградских театров. Приезжали к нам и москвичи.
Блестящая характерная танцовщица Эльза Крюгер. Из ее танцев запомнился мне «Танец амазонки», галоп, в котором у артистки забавно сочетались два образа.
Вот перед вами элегантная амазонка с хлыстиком, как бы верхом на дрессированной лошадке, а вот она уже эта самая норовистая лошадка!
Были у нас в репертуаре и детские рассказы. Читал их большой мужчина во фраке, Лопухов. Он делал то же, что теперь делает Рина Зеленая. Принимали его хорошо, аплодировали, как аплодировали и Нине Дулькевич, одной из лучших исполнительниц детских рассказов и цыганских романсов.
Если я упомянул эти имена рядом с именем Рины Зеленой, это отнюдь не значит, что поставил между ними знак равенства. О нет! Не желая говорить Рине Васильевне комплиментов, должен все же сказать, что, с моей точки зрения, она в этом жанре единственная не «исполнительница», не имитатор, а актриса в лучшем смысле этого слова.
Она любит детей. Острым глазом, чутким ухом, настороженным вниманием проникает она в душу ребенка и трогательно, весело (а не просто смешно), без дешевого сантимента и без грубого нажима пленительно рассказывает о детях устами детей.
Секрет этой пленительности, мне кажется (кроме, конечно, главного: мастерства исполнения и остроумия текста), не только в личной субъективной обаятельности Рины Зеленой, но и в том, что объекты рассказов — дети — у нее всегда очаровательны, всегда симпатичны в своей наивности. Рина Зеленая смеется вместе с детьми, остальные «исполнители» смеются над детьми… У Рины Зеленой они наивны, у других — глупы, а что может быть пошлее, чем опошлять ребенка?..
Кстати, об опошлении и оглуплении жанра.
В эти же годы впервые, если не ошибаюсь, у нас в театре артистка Мириманова выходила на сцену в крестьянском платье и пела частушки, записанные в деревнях. Она имела оглушительный успех, и сразу же появились подражательницы и подражатели. Привлекал в этом номере публику подлинный народный юмор — острый, хлесткий, умный. Но, как часто бывает, когда артисты теряют чувство меры и идут на поводу у вкусов и требований невзыскательного зрителя, мало-помалу у подражателей народность, подлинность уступили место выдумке, пошлости и дешевке. Зачем ездить по деревням и собирать частушки, рассуждали «частушечники», когда их может написать любой сочинитель шансонеток, и не «на улыбку», а