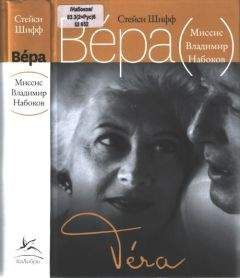Набоков не всегда считал себя талантливым писателем, как было впоследствии, — Вера допускала в частных разговорах, что ему были свойственны сомнения, неудачи и огорчения, — но самобичеванием он не занимался никогда. Он был старшим и любимым ребенком в семье, имевшей трех сыновей и двух дочерей; по одним рассказам родители постоянно баловали его, по другим — буквально боготворили. Владимиру с детства привили убежденность в том, что он — центр некоего утонченнороскошного мира (Набоков нес в себе отпечаток того дореволюционного детства, в котором было вполне естественным обронить фразу о «младших и старших садовниках» у себя в поместье), и это высокомерие он всю жизнь нес в себе, вплоть до того времени, когда и тот мир, и та роскошь сгинули навсегда. Владимир отличался воистину невероятным эгоизмом. «Все Набоковы себялюбивы», — поясняла сестра писателя, Елена Сикорская, достаточно незлобиво воспринимавшая привилегированное положение брата в семье, хотя и признавала, что это дорого обходилось всем остальным. В описании одного из своих второстепенных героев Набоков вполне мог иметь в виду самого себя, говоря: «Он любил себя страстной и вполне разделенной любовью».
Вере Слоним было не свойственно подобное чувство душевного комфорта, хотя другую такую особу, столь же ревностно хранившую верность жизненным принципам, в Берлине стоило поискать. Это ее свойство чрезвычайно привлекало Набокова; рядом с Верой он ничего не боялся. В Вере он обнаружил причудливое сочетание женской хрупкости и неженской решительности, что так восхищает Федора Константиновича в Зине. Она не просто была непоколебима в своих убеждениях, ее убеждения зачастую противоречили здравому смыслу. В середине 1924 года Владимир упоминает в письме о посещении им вместе с Верой могилы его отца. Он по-прежнему глубоко переживал эту утрату и необычайно тосковал по отцу: «Когда на кладбище, кроме нас, никого не осталось, я так зримо и остро ощутил: ты знаешь все, знаешь, что будет после смерти, знаешь абсолютно все, ясно и покойно, как знает птица, слетевшая с куста, что полетит, а не упадет. И вот почему я так счастлив с тобой, любовь моя!» Мы и понятия не имеем, что она говорила ему в тот день или после; знаем только, что никто из супругов Набоковых не считал смерть концом существования. Пожалуй, Вере Слоним первой пришла такая мысль в голову; ее переводы свидетельствуют об интересе к потустороннему миру. Если и роднит что-то По с Райновым, так это восхищение запредельной жизнью, царством реальных теней, которое простирается за нашим иллюзорным существованием. Для безнадежного буквалиста сопряжение этих двух имен, пожалуй, выглядит странновато.
Некоторые критики связывают с женитьбой Набокова его первые удачные попытки обнаружить реальность по ту сторону тварного мира. В пьесе 1924 года «Трагедия господина Морна» впервые в творчестве Набокова герой переходит из одного мира, из одного сознания в другое. В первом его романе, «Машенька», появляется термин «метампсихоза» — переселение души после смерти в оболочку другого человека. Позже Набоков с удовлетворением замечал Вере, что, когда он читал вслух домашним своего «Соглядатая», все поняли, что после смерти героя его душа переместилась в Смурова. А в 1925 году, накануне годовщины гибели отца, в письме Владимира к матери обнаруживаются новые интонации: «Я так уверен, моя любовь, что мы еще увидим его, — в неожиданном, но совсем естественном раю, в стране, где все — сиянье и все прелесть»#. Его творчество наполнено героями, подверженными разного рода психическим сдвигам: Вадим Вадимович Н. из «Смотри на арлекинов!» страдает от своей неспособности менять направление в пространстве, как мы не способны менять направление во времени. Герой-повествователь в «Лансе» никак не может вписаться в снящийся ему пейзаж. (Похожим образом Набоков сетовал, что его сокрушает тотальность воспоминаний — болезнь, от которой чудесным образом излечивает наличие биографа.) С вхождением Веры в его жизнь Набоков стал задумываться о том, что конечным может быть только пространство, но не время. Его произведения изобилуют «выходцами с того света», попытками заглянуть в то, что находится за гранью нашего существования. Это «ясное сверхзнание», наполняющее его прозу, пожалуй, следствие прямого влияния Веры или же кого-то еще, возникшего одновременно с ней.
Владимир явно был благодарен Вере за то, что она научила его кое в чем мыслить более здраво. Уже с шести лет он начал писать стихи. В семнадцать Владимир считал каждое стихотворение маленьким чудом, стопроцентным вымыслом. «Теперь я знаю, что действительно разум при творчестве — частица отрицательная, а вдохновенье — положительная, но только при тайном соединении их рождается белый блеск, электрический трепет творенья совершенного»#, — писал он Вере в январе 1924 года. По семнадцать часов в сутки он корпел над тридцатью строками «Морна». «Извилистыми путями»# Вера внушила ему этот драматический сюжет. Набоков всегда высоко ценил интуицию, но теперь оценил всю важность точности в литературе. Человек, который потом повергнет студентов американских университетов в неистовство фразой, что к литературе необходим подход художнически точный и по-научному страстный, сам подошел к осознанию этой истины, когда уже был старше своих слушателей и после того, как встретил женщину, которая больше, чем он, терпеть не могла «обиняков, этих заусениц речи». Спустя десятилетия Набоков воздал должное Вере за то, что та следила за точностью его прозы. «Писать — вот что только и мило, только и важно мне сейчас», — заявлял Набоков в своем последнем письме Светлане Зиверт, что звучало неким отказом от любви. Совсем с иными чувствами он повторяет то же Вере Слоним. «Я готов испытать китайскую пытку за находку единого эпитета»#, — утверждал он, изнемогая от своих трудов над «Морном».
Из Праги Владимир возвратился в Берлин, везя с собой в чемодане почти завершенную рукопись. Он знал, что написанное будет оценено Верой. Он писал как-то в письме, что она осталась единственной из трех человек, кто способен понять каждую его запятую, и одного из них уже нет на свете[28]. Потому ли, нет ли, но он любил ее «неистово и бесконечно»#, «до потери сознания». Должно быть, встреча в январе была сладостной, однако остаток зимы стал трудным периодом для Веры, продолжавшей работать в конторе отца. Как раз в эту зиму разразился экономический кризис, грозивший отнять у Слонима все, что осталось от сбережений. В конце декабря Слоним оставил фирму «Орбис»; к 1925 году он был окончательно разорен. Вероятно, именно у него в конторе Вера перепечатывала «Трагедию господина Морна»; пора публикации собственных переводов для нее закончилась, из чего следует, что она занималась этим не только ради денег, хотя средства как никогда были ей нужны.