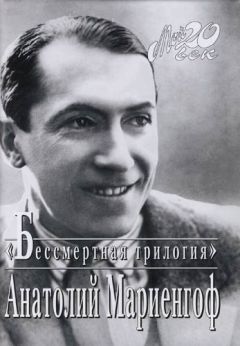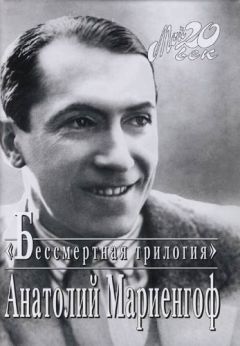Огромные лбы принято считать чуть ли не признаком Сократовой мудрости. Экой вздор! В своей жизни я встречал ровно столько же высоколобых болванов, сколько и умников, в числе которых, надо сказать, довольно редко оказывались краснобаи.
— Нет, господа, с большевиками я даже на биллиарде играть не согласен! — всюду заверял Роберт Георгиевич своих судейских коллег и партнеров по винту.
— Этого еще не хватало! — фыркнула Марго. — Нашел себе подходящую компанию.
Следует заметить, что большевики тогда не нравились и доктору Петру Петровичу Акимову, которого сейчас поджидали. А ведь про доктора не только в гостиных и в клубе, но и на базаре всегда говорили: «У-у, это голова!»
Когда к Петру Петровичу приходил пациент с больным сердцем и спрашивал: «Доктор, а коньячок-то небось мне теперь пить нельзя?… И курить небось — ни-ни?… И насчет дамочек…» — Петр Петрович обычно клал такому пациенту на плечо свою костистую руку и внушительно поучал: «Самое вредное для вас, дорогой мой, это слово «нельзя» и слово «ни-ни». А все остальное — Бог простит… И я вслед за ним».
По уверениям пензяков, больные уходили от умного терапевта почти здоровыми. Я бы, например, добавил: «Психически». А ведь и это немаловажно.
Да и прочие медицинские советы Петра Петровича, по моему разумению, были прелестны.
«Вам, батенька, — наставлял он свежего пациента, — прежде всего надо к своей болезни попривыкнуть. Сродниться с ней, батенька. Конечно, я понимаю, на первых порах она вам кажется каким-то злодеем, врагом, чудовищем. Чепуха, батенька! Вот поживете с ней годик-другой — третий, и все по-хорошему будет. Уж я знаю. Даже полюбите ее, проклятую эту свою болезнь. Станете за ней ухаживать, лелеять ее, рассказывать про нее. Вроде как про дочку. Приятелям своим рассказывать, родственникам, знакомым. Да нет, батенька, я не смеюсь, я говорю серьезно. Честное слово. И чем раньше это случится, тем лучше. Вообще, батенька, в жизни философом надо быть. Это самое главное. Обязательно философом… Хочешь не хочешь, а к полувеку надо же какую-нибудь болезнь иметь. Помирать же от чего-нибудь надо. Так ваша болезнь, батенька, не хуже другой. Даже, на мой глаз, посимпатичней».
Пациент сначала смеялся, потом сердился на Петра Петровича, потом говорил: «Такого врача и в Москве не сыщешь!» И, привыкнув к своей болезни, наконец помирал, как и все другие пациенты на этой планете.
Однако вернемся к политике, которая тогда занимала все умы.
Так вот: Роберту Георгиевичу с супругой большевики не нравились, Петру Петровичу тоже, Сергею Афанасьевичу Пономареву… ну, конечно же! Словом, как это ни грустно, но знаменитый на всю губернию присяжный поверенный был совершенно прав, когда заявлял, что они «никому не нравятся». Разумеется, надо понимать под словом никому солидную пензенскую интеллигенцию.
Звонок продребезжал у двери.
— Вот и Петр Петрович, — сказал отец. — Это его колокол.
Настенька живой рукой, по ее любимому выражению, кинулась отворять парадную дверь.
— Пожалуйте, доктор, пожалуйте! Вас заждались!
— А я, лапушка, к приятелю своему заезжал, к провизору Маркузону, — хрипел в ответ доктор. — К чудотворцу Абраму Марковичу. Вот…
И по установившемуся обычаю, он засовывал в карман ее белоснежного фартучка пузырек с персиковым ароматным маслом.
— Вот секрет твоей красоты. На сон грядущий перед молитвой в щеки втирай, лапушка, в щеки и в нос… пять капелек.
— Ой, спасибо, Петр Петрович!
А из гостиной, состроив кислую гримаску обиды и шевеля бровями, мурлыкала Марго:
— Опять, доктор, на полчаса опоздали!
— Доктор всегда опаздывает, — поддержал знаменитый оратор свою супругу. — Он и к своему больному является через пять минут после его смерти.
— Хи-хи-хи!.. Хи-хи-хи!.. — этаким валдайским бубенчиком аккомпанировала Марго.
— Поверьте, господин Демосфен, к вам я приеду вовремя: к самому выносу, батенька, вашего величественного тела! — неласково отозвался доктор, снимая возле вешалки высокие суконные боты, изрядно забрызганные знаменитой пензенской грязью — черной, как осенняя ночь.
Партнеры разошлись в начале второго.
Задув стеариновые свечи на ломберном столе, Настенька грустно спросила:
— Небось, барин, опять проигрались?
Отец, как всегда, отвечал несколько сконфуженно:
— Сущие пустяки.
— Сегодня пустяки, завтра пустяки, послезавтра…
Глубоко вздохнув, Настенька стала собирать в колоду небрежно разбросанные карты.
— Папа, а ведь он совсем не умен, выражаясь мягко.
Отец, разумеется, сразу понял, о ком я говорю.
— Тебя это удивляет?
— Ну, как-никак — присяжный поверенный, оратор, именьице уже заработал и четырехэтажный каменный дом.
— Видишь ли, я давно убедился, что процент дураков во всех профессиях примерно один и тот же.
— Не понимаю.
— Ну, допустим, если ты возьмешь десять министров — добрая половина обязательно дураки. Десять купцов — пропорция та же. Десять полотеров или дворников — картина не изменилась. Десять миллионеров, десять бедняков — тот же закон природы. Совершенно железный закон.
— Парадокс, папа?
— Избави меня Бог!
Действительно, на этот раз его глаза не были окружены веселыми насмешливыми морщинками. Он явно говорил то, что продумал, в чем убедился, наблюдая жизнь сквозь стекла пенсне в золотой оправе.
— Поэтому, мой друг, вероятно, Герцен и советовал считаться с глупостью как с огромной социальной силой.
И, сняв пенсне, презрительно добавил, продолжая думать о Роберте Георгиевиче:
— Н-д-а-а, патриот Российской империи!
И так как у нас в доме было что-то вроде семейного культа Вильяма Шекспира, заключил цитатой из него:
Он уверял, что если б не стрельба,
То сам бы, может быть, пошел в солдаты.
Я представил себе эту картину: Роберт Георгиевич в бескозырке набекрень и с винтовкой на плече — «шагом марш!..».
И в голос рассмеялся.
— Ты что?
— Да так, папа. Обожаю Шекспира. До чего ж умен!
А напоследок, как всегда в те недели, мы поговорили о русской интеллигенции.
— Вот, — сказал отец, — к примеру, Марго. Через каждые десять фраз у нее: «Мы — русская интеллигенция!», «Мы — образованные люди!». Ну какая она, в сущности, «мы — интеллигенция!», какая — «мы — образованные люди!»? Да что она знает, эта барыня, толстокожая, как плохой апельсин? Что у нее после гимназии осталось в голове? Что помнит? Ну, скажем, о древних римлянах? Да кроме того, что Нерон ради красивого зрелища Рим поджег, ничего она больше не знает, ничего не помнит. Ну, разве еще, что римляне на пирах для облегчения желудка вкладывали два пальца в рот и тошнились. Вот и все. Вот и все ее познания о римлянах. И о древних афинянах не больше, и о французах средневековья, и о Пушкине. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» И — тпру! А ведь таких у нас интеллигентов, как Марго, — девяносто процентов.