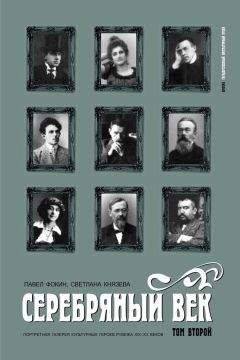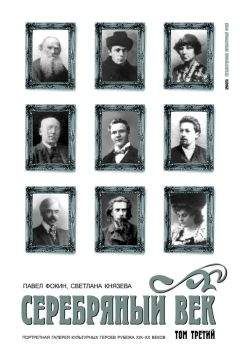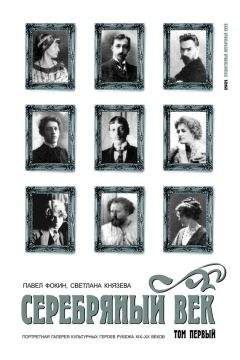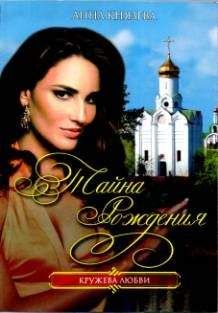Живописец, театральный художник, писатель, археолог, поэт. Член объединения «Мир искусства». Живописные полотна из цикла «Начало Руси. Славяне» (1899–1901), «Сходятся старцы» (1897–1898), «Зловещие» (1901), «Город строят» (1902), «Дозор» (1905), «Славяне на Днепре» (1905), «Занятие земное» (1907), «Небесный бой» (1909), «Знамение» (1915) и др. Роспись абсиды и мозаика над входом в церкви Святого Духа в Талашкине. Декорации и костюмы к «Половецким пляскам» из оперы Бородина «Князь Игорь», к опере Римского-Корсакова «Снегурочка», балету Стравинского «Весна священная», спектаклям «Принцесса Малэн» и «Сестра Беатриса» Метерлинка, «Пер Гюнт» Ибсена. Стихотворный сборник «Цветы Мории» (Берлин, 1921). С 1918 – за границей.
«Из всех русских художников, которых я встречала в моей жизни, кроме Врубеля, это единственный, с кем можно было говорить, понимая друг друга с полуслова, культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся» (М. Тенишева. Впечатления моей жизни).
«Рерих был для всех нас загадкой, и я должен признаться, что до сих пор не могу с уверенностью сказать, из каких действительных, а не только предполагаемых и приписываемых ему черт соткан его реальный сложный человеческий и художнический облик. О Рерихе можно было бы написать увлекательный роман, куда более интересный и многогранный, чем роман Золя о Клоде Лантье, в котором выведен соединенный образ Эдуарда Мане и Сезанна 1860-х годов. Ядаже не знаю сейчас и никогда не знал раньше, где кончается искренность Рериха, его подлинное credo, и где начинается поза, маска, беззастенчивое притворство и рассчитанное мудрецом жизни уловление зрителя, читателя, потребителя. Но что эти два элемента – правдивость и лживость, искренность и фальшь – в жизни и искусстве Рериха неразрывно спаяны, что они лежат в основе того, что перейдет следующим поколениям под именем „Рерих“, в этом сомнения быть не может.
Рерих – вообще явление особенное, до того непохожее на все, что мы знаем в русском искусстве, что его фигура выделяется ослепительно ярким пятном на остальном фоне моих воспоминаний о жизни и делах художников давно минувших лет.
…Рерих, прежде всего, бесспорно блестяще одарен. В Академии я не помню его классных работ – они были, видно, не интересны. Он приходил всегда в студенческой форме, ибо был на юридическом факультете Петербургского университета. Отец его, известный нотариус, владелец большой нотариальной конторы на Васильевском острове, готовил его себе в преемники. В Академию он явился уже готовым художником, прошедшим школу рисования и живописи у М. О. Микешина. От него он наследовал легкость и быстроту исполнения, иллюстративность отношения и уверенность в своей неотразимости.
В год поступления Рериха в Академию Третъяков покупает его картину „Гонец“ с подзаголовком: „Восстал род на род“.
…Картину не в меру захвалил Стасов, хотя она и была лучше других подобных же картин тогдашних академических выставок.
Вскоре он совершенно изменил манеру и, занявшись доисторической археологией, ушел в мир Древней Руси. Совершив путешествие по Новгородской, Псковской, Вологодской и Ярославской губерниям, он привез большую серию этюдов церквей и погостов, видов городов и архитектурных деталей, сделанных в особой манере, с оконтуриванием архитектуры черной чертой, упрощением формы и цвета. Они произвели в свое время впечатление, хотя для глаза, вышколенного на тонком искусстве, казались грубоватыми и малокультурными.
…Вскоре после этого Рерих выступает с серией картин из быта доисторических славян. Все они были талантливы, и Рерих рос не по дням, а по часам. Росла и его административная карьера: после трагической смерти Собко, попавшего под поезд, Рерих получает назначение секретарем „Общества поощрения художеств“ – пост по тогдашнему времени весьма значительный, ввиду близости к придворным сферам через всяких великих княгинь, патронесс общества. Понемногу он превращается в „Николая Константиновича“ и становится „особой“, с его мнением считаются, перед ним заискивают. Он полноправный хозяин второй петербургской академии – „Общества поощрения“. Перед самой революцией была, как говорят, подписана бумага о назначении его действительным статским советником, то есть „статским генералом“, что было связано с приятным титулом „ваше превосходительство“. Чего больше? В тридцать лет достигнуть всего, о чем можно было мечтать по линии служебной карьеры! Но этого было Рериху, конечно, недостаточно. Он начал собирать нидерландцев. Это придавало солидность и вес. К моменту революции ему уже удалось собрать целую галерею первоклассных вещей, попавших вслед за тем в Эрмитаж. Я никогда не мог понять, как мог он искренно собирать именно нидерландцев, искусство которых столь коренным образом чуждо его собственному.
…Но самым главным делом для него оставалась все же собственная живопись. Он еще раз в корне переменил манеру и художественную установку, вступив в лучший, наиболее блестящий период своей художественной деятельности. Убедившись в излишней черноте картин своего предшествовавшего периода, Рерих бросил масляную живопись, перейдя исключительно на темперу. Появились те красивые, гармонические по цветам композиции, которые стали нарицательными для обозначения существа рериховского искусства: настоящее, бесспорное, большое искусство, покорившее даже скептика Серова. Особенно хороши были эскизы его театральных постановок – к „Игорю“, „Пер Гюнту“, „Весне священной“.
Для меня была совершенной загадкой жизнь Рериха. Бывало, придешь к нему в его квартиру, в доме „Общества поощрения“, вход в которую был не с Морской, а с Мойки, и застаешь его за работой большого панно. Он охотно показывает десяток-другой вещей, исполненных за месяц-два, прошедших со дня последней встречи: одна лучше другой, никакой халтуры, ничего банального или надоевшего – все так же нова и неожиданна инвенция, так же прекрасно эти небольшие холсты и картины организованы в композиции и гармонизованы в цвете.
Проходит четверть часа, и к нему секретарь приносит кипу бумаг для подписи. Он быстро подписывает их, не читая, зная, что его не подведут: канцелярия была образцово поставлена. Еще через четверть часа за ним прибегает служитель:
– Великая княгиня приехала.
Он бежит, еле успевая крикнуть мне, чтобы я оставался завтракать. Так он писал отличные картины, подписывал умные бумаги, принимал посетителей, гостей – врагов и друзей, – одинаково радушно тех и других, первых даже радушнее, возвращался к писанию картин, то и дело отрываемый телефонными разговорами и всякими очередными приемами и заботами. Так проходили день за днем в его кипящей, бившей ключом жизни. За все время наших встреч он почти не менялся: все тот же розовый цвет лица, та же озабоченность в глазах, сохранявшаяся даже при улыбке, только льняного цвета волосы сменились лысиной и желтая бородка побелела. Но это еще не весь Рерих. Кроме Рериха-художника, чиновника, археолога и писателя – ибо он писал нечто вроде археологических поэм в прозе, в стиле „Ой ты, гой еси“ – был и, по-видимому, есть до сих пор еще другой Рерих, Рерих-мистик, оккультист, спирит, „потусторонний“» (И. Грабарь. Моя жизнь).