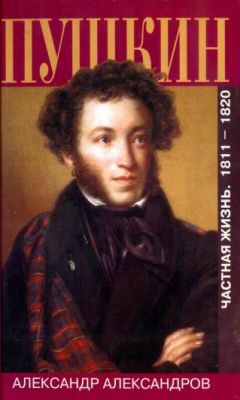— А вы откуда-то, простите за нескромный вопрос, ваше сиятельство, эту девку знали? — не выдержал Иван Петрович.
— Иван Петрович, это дело случая, и только. Она была дама полусвета и имела наглость прогуливаться по Невскому среди светской публики со своей так называемой тетушкой, там-то мне ее и показывали. Представьте себе, она шла с нашим лицейским другом, бароном Дельвигом, и, что самое интересное, девка была одета в гусарский мундир…
— Какого полка? — уточнил Иван Петрович.
— Лейб-гусарского, среди лейб-гусар у Пушкина и Дельвига было много приятелей, у Дельвига его родственники, кузены Рахмановы, служили в этом полку; я поздоровался с бароном — он ответил мне. Милый, добрый лентяй и приятный поэт, он был все тот же, что и в Лицее, кто из нас не любил барона? Я посмотрел внимательно, не знаю ли я гостя, рассчитывая, что ежели не знаком, так барон меня представит. Но барон потащил гусара наверх, ни слова мне не говоря. Право, мне это показалось странным. Когда они повернулись на лестничном марше, гусар взглянул на меня сверху вниз, и тут я понял, что знаю этого гусара, который и не гусар вовсе, а известная публичная девка. Но надо признать, что маскарад был удачным, она была все-таки похожа на молоденького безусого гусара.
— Как ее звали, вы случаем не помните?
— Бог мне дал хорошую память, помнится, ее фамилия была Шот-Шедель!
Иван Петрович так и подпрыгнул от радости. Про Лизаньку Шот-Шедель он уже знал, это была известная петербургская прелестница, дальняя родственница дворецкого княгини Ночной Иоганна Шота, венгерского подданного. Вероятно, венгерское происхождение и надоумило Лизаньку надеть гусарский мундир. А может быть, Дельвиг с приятелями устроили Пушкину этот сюрприз.
Иногда Ивану Петровичу начинало казаться, что он слишком разменивается на мелочи быта, что общая картина жизни у него начинает дробиться и оттого теряет очертания. Ну скажите, зачем ему было вспоминать, да еще выяснять и выспрашивать тех, кто еще помнил прежние времена, о прелестнице Лизаньке Шот-Шедель и с кем в родстве она состояла? Кому нужно было знать про дворецкого Шота, служившего у княгини Авдотьи Ивановны?
А вот еще недавно, роясь в старых журналах, он наткнулся на рассказы о том, как барон Дельвиг водил Боратынского и самого рассказчика обедать в трактир, что крайне изумило их. Они-то думали, как говорит рассказчик, что барон поведет их обедать к Талону или Фёльету? Что-то остановило его в этой фразе: Талону или Фёльету. Иван Петрович предпринял, разыскания и выяснил, что Талон и Фёльет на самом деле был один и тот же ресторан, сначала он принадлежал французу Петру Талону, который весной 1825 года уехал за границу, в его помещении разместилось «Справочное место», и лишь позднее, после 1825 года, снова был открыт французский ресторан, уже Фёльета. Евгений Онегин ездил к Талону, стало быть, молодой Пушкин тоже. А вот рассказчик всего через десяток лет, когда писал свои записки, а именно в 1832 году, уже не помнил таких подробностей. Так зачем было знать эти подробности самому Ивану Петровичу? Чтобы донести их до потомков? А что потомки будут знать и какая путаница будет у них в головах? Как поймут они намеки современников в записках, когда зачастую нельзя было сказать о чем-либо прямо, или частную переписку, которая тоже, за редким исключением, велась с оглядкой на перлюстрацию? А как верить словам, написанным через много лет после происходивших событий, если человек толком не помнит, о чем говорил или думал вчера, позавчера? Как верить лишь одному современнику, когда об одном и том же событии все рассказывают по-разному? И как вообще быть с русскими, которые никогда не умели и не умеют вести диалог, сплошь и рядом не понимая смысла слов, которые сами произносят, не говоря уж о смысле слов, которые произносят другие. На эти вопросы, сколь ни силился Иван Петрович, он не находил ответа.
в которой Пушкин с Всеволожским посещают гадательнииу Кирхгоф и узнают свое будущее — Она предсказывает смерть Пушкина от белой лошади, белой головы или белого человека. — Драка с немцами в Красном Кабачке. — Весна 1818 года— Кажется, князь Цицианов, известный поэзией своих рассказов, говорил, что в его деревне одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: дай мне водки! — Пушкин захохотал на всю улицу над словами Никиты Всеволожского. — Может быть, и мы пропитание свое начали не с молока матери, а прямо с водки.
Большая колымага, «колбасообразный» экипаж, так называемая русская линия или линейка, где пассажиры сидели спиной друг к другу на длинных скамьях, шестериком тащилась по Петербургу. В Петербурге ее видеть было странно, ибо такие употреблялись для прогулок по павловским и царскосельским садам. Эта же линейка принадлежала Всеволожским и была пригнана из их имения Рябово. Все общество «Зеленая лампа» после ночных возлияний совершало утреннюю прогулку. Ездили кругами по улицам Петербурга, по набережным его каналов, но каждый раз возвращались к зданию Театральной школы.
Иногда, завидев кого-нибудь в окнах аристократических домов, молодые люди вежливо раскланивались, хотя заметившие их спешили поскорее задернуть занавески и отозвать от окон девушек. Общество в линейке выглядело престранно: все мужчины были в рубашках, несмотря на весьма прохладную весеннюю погоду, а Саша Пушкин, хоть и заворачивался в испанский плащ, но непременно вставал, завидев кого-нибудь в окне, снимал с бритой головы парик и кланялся поясно, как простолюдин. На сверкающей его лысине были тушью нарисованы буквы «Н.К.Ш.П.».
— Пушкин! Пушкин! — шептались за окнами. — Болел гнилой горячкой. Чуть Богу душу не отдал. Теперь выздоровел. Гуляют. Говорят, у него каждый день дуэли. Как вышел из дому, так сразу и дуэль. Но все бретерские, чтобы храбрость показать; выстрелят друг в друга, промахнутся, обнимутся и — к Демуту шампанское пить. Таков ритуал.
— Нет, мой милый, — поправил лежавший в пустом шампанском ящике Пьер Каверин Никиту, — это простонародье начало пропитание с водки, а мы — с шампанского, — постучал он по краям ящика. — Шампанский ящик послужит гробом мне, как послужил и колыбелью! Калмык, твою мать, подай же наконец новую бутылетту!
— Шампаньский, — улыбнулся калмык и вытащил со дна колымаги из другого ящика со льдом новую бутылку. — Здравия желаю!
— Стой! — вскричал Никита. — За здравие воспитанниц Театральной школы!