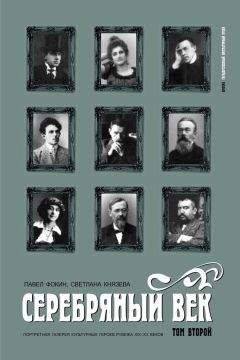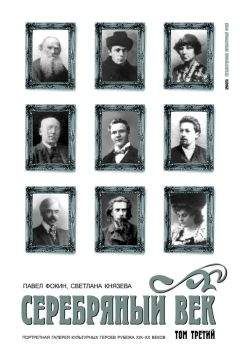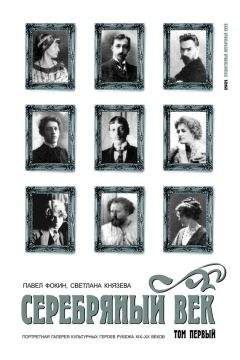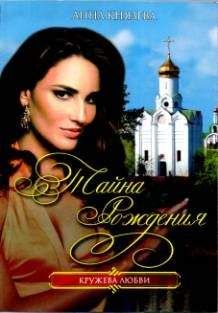У стола Анти нельзя вывести из терпения никакими мерзостями, и он не станет дома расстраиваться, так как всю энергию бережет для творчества и твердо убежден, что он „горит“ на стенах выставок. До остального ему нет дела.
…Анти очень увлекся композицией. Владеет ей в совершенстве. Вчера он рассказывал, что раньше, глядя на белый холст, он представлял композицию в общих чертах – такие-то формы и вот такие цвета; а теперь он на белом холсте видит уже обдуманную вещь, которую только остается написать, все до деталей он представляет себе точно и ясно. Вчера он, лежа на кровати, с удовольствием смотрел на белый холст и говорил, что потом он уже и писать не будет, а только смотреть на готовые загрунтованные холсты и думать…
Мысль у него бежит скорее, чем он успевает ее реализовать…
Его фантазия проявляется не только в творчестве, но и в обыденной жизни, в придумывании всевозможных выходов как практического, так и теоретического характера. И очень забавно, что он может упорно работать, чтобы построить какое-нибудь практическое удобство дома, но по характеру ленив и нетерпелив. Доминирует у него всегда и над всем творчество и строительство, конструирование. Конечно, он обладает большими конструкторскими способностями» (В. Степанова. Дневник).
«Конструктивисты на плоскости помимо воли утверждали изобразительность, элементом которой была их конструкция. И когда художник захотел действительно избавиться от изобразительности, он этого достиг лишь ценою уничтожения живописи и ценою самоубийства как живописца. Я имею в виду полотно, которое Родченко на одной из выставок… предложил вниманию удивленных зрителей. Это было небольшое, почти квадратное полотно, сплошь закрашенное одним красным цветом. В эволюции художественных форм, которую совершило искусство за последнее десятилетие, этот холст чрезвычайно знаменателен. Он не является уже этапом, за которым могут последовать новые, а представляет собой последний, конечный шаг в длинном пути, последнее слово, после которого речь живописца должна умолкнуть, последнюю „картину“, созданную художником. Это полотно красноречиво доказывает, что живопись как искусство изобразительное, – а таковым оно было всегда, – изжила себя. Если черный квадрат на белом фоне Малевича, при всей скудости своего художественного смысла, содержит в себе некую живописную идею, названную автором „экономия“, „пятое измерение“, то полотно Родченко лишено всякого содержания: это тупая, безгласная, слепая стена. Но, как звено в процессе развития, оно исторично и „делает эпоху“, если рассматривать его не как самодовлеющую ценность (ее нет), а как эволюционный этап» (Н. Тарабукин. От мольберта к машине).
«Родченко – фигура трагическая. С 1915-го по 1920-й год он создавал шедевры, намного опережая свое время. Я имею в виду его линейные геометрические построения, которые он начал делать где-то уже в 1916-м году. Совершенно неожиданно, в году двадцатом он перестал этим заниматься. Как отрезал! Взял в руки камеру, увлекся фотографией, стал делать портреты Маяковского, комбинировать фотографии, принес что-то новое в это искусство. Но как художник перестал существовать» (Г. Костаки. Мой авангард).
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод Александрович
29.3(10.4).1895 – 31.8.1977
Поэт, переводчик, мемуарист. Член «Кружка поэтов» (Пг., 1916). Член «Цеха поэтов» (до 1921). Стихотворные сборники «Гимназические годы» (СПб., 1914), «Лето (Деревенские ямбы)» (Пг., 1921), «Золотое веретено» (Пг., 1921), «Большая медведица» (Л., 1926), «Гранитный сад» (Л., 1929) и др. Книга воспоминаний «Страницы жизни» (М.; Л., 1962; 2-е изд., доп. М., 1974).
«Он был общителен, постоянно стремился к новым впечатлениям, к новым людям и вместе с тем любил свою комнату, природу, уединение… Он жил обычно в небольших комнатках. Удивляли чистота и порядок всюду и во всем – на рабочем столе, на книжных полках, на постели и на полу. Свои книги Рождественский любил как подлинный библиофил, с удовольствием показывал редкостные издания. Поражала широта его интересов: история, живопись, скульптура, музыка, литература, научные открытия. С увлечением наклеивал он вырезки из журналов и газет в различные альбомы… Тут были характерные пейзажи, знаменитые сооружения, портреты исторических деятелей, писателей, художников, музыкантов, актеров – в ролях и в жизни. Особое внимание Рождественского привлекали театральные костюмы, потому что он любил театр, ценил художников „Мира искусства“ и среди них работавших для театра.
Рождественский не играл ни на каком музыкальном инструменте, но музыку очень любил, часто бывал в концертах, слушал у себя дома граммофонные пластинки, посещал дома знакомых музыкантов и композиторов. Поэзия и музыка в его восприятии сливались с природой воедино» (В. Мануйлов. Записки счастливого человека).
«Огромная комната в три окна.
Налево на стене кругликовский портрет Михаила Кузмина. Три шкафа с книгами. Старинное бюро – сколочено и склеено, без одного гвоздя, еще при крепостном праве. Ширма, как у кровати девушки… На одном из шкафов – рюмочка с засохшим цветком. У железной печи посреди комнаты (последний вид „буржуйки“) стол с бархатной скатертью. Просторно.
Это комната Всеволода Рождественского.
Мне кажется, комната в некотором роде выражает ее обитателя.
Всеволод Рождественский – человек молодой, живой. Ничто человеческое ему не чуждо. Внешне – он весь в сегодняшнем дне. Люди, живущие настоящим, в большинстве – легкие. Если он пишет о грусти – его грусть светла. В его иронии – безобидная улыбка.
На улице он не носит очков, но в театре обязательно: он близорук. Ходит быстро. Пальто застегивает на все пуговицы. Конец длинного шарфа засовывает назад за пояс пальто. Вид получается молодцеватый.
Быт свой он строит соответственно привычкам. Дома не обедает, так как живет один. Днем бегает по редакциям, книжным магазинам, по уличным развалам букинистов, издательствам. Вечером – театры, концерты, многочисленные знакомые и знакомки. Над ним весело, беззлобно посмеиваются, иронизируя над непостоянством его привязанностей, называют его мотыльком: „А наш Всеволод все порхает“.
Ему тридцать лет.
Читает свои стихи с удовольствием. Немного картавит. Читает медленно, с пафосом, увлекаясь. Пишет много. Иногда пишет стихи только для печатания, иногда – только для себя. Которые для себя – душевны, искренни, но с ангелами.
Он учится быть крепким в мыслях и не показывать самого главного – нутра. Что у него там – он сам не знает что. Но незаметно для самого себя идет медленная упорная борьба нового со старым. Он то отступает с боем, то наступает, учась и накапливая силы.