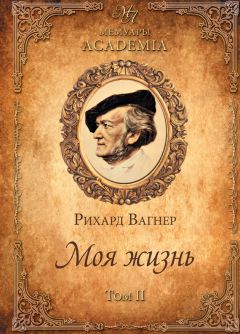Было прекрасное весеннее утро, когда я в последний раз шел обычным путем моих одиноких прогулок, сознавая, что больше я сюда не вернусь. Пели жаворонки и взмывали вверх над полями, а из города доносилась неумолчная канонада. Но мозг мой до такой степени привык за последние дни к ружейным выстрелам, что, казалось, они преследовали меня еще долго потом: совершенно так, как после морского путешествия я чувствовал в Лондоне колебание почвы под ногами. Под звуки ужасной музыки я послал привет городу. Глядя на башни, виднеющиеся в отдалении, я с улыбкой констатировал, что если семь лет назад мое прибытие сюда было обставлено очень скромно, то теперь я покидаю Дрезден при обстоятельствах чрезвычайно торжественных.
238
Когда мы вместе с Минной продвигались по направлению к горам в экипаже, мимо нас часто проходили свежие вооруженные отряды. Зрелище это невольно радовало нас, и даже жена заговаривала с ними в ободряющем тоне: ни одна баррикада еще не взята. Напротив, отряд пехоты, молча направлявшийся в Дрезден, произвел на нас тяжелое впечатление. На вопрос, обращенный к некоторым из солдат, куда они идут, они отвечали сухой, заранее внушенной им фразой, что идут исполнить свой долг.
Когда мы прибыли в Кемниц, я испугал родных заявлением, что завтра же еду назад в Дрезден, чтобы узнать, как идут дела. Несмотря на все уговоры, я исполнил свое решение, надеясь по пути встретить отряды вооруженного народа, покидающие город. Однако чем ближе к Дрездену, тем более подтверждались слухи, что там и не думают ни о сдаче, ни об отступлении, так как борьба складывается очень благоприятно для народной партии. Все это казалось мне каким-то неслыханным чудом.
В самом напряженном настроении я снова, во вторник 9 мая, пробирался к ратуше в Альтштадт. Передвижение становилось все более и более затруднительным. Улицы были загромождены, и приходилось пролагать себе дорогу через рухнувшие дома. Наступил вечер. То, что я видел, было поистине ужасно, так как я проходил по тем частям города, где жители собирались отстаивать дом за домом. Непрерывный гром пушек и залпы ружей совершенно заглушали звуки перекликавшейся с баррикады на баррикаду, из прохода в проход шумевшей толпы вооруженного народа. Крики эти казались неясным жужжанием. Смоляные костры горели тут и там, переутомленные бледные люди лежали вокруг них на сторожевых постах. Строгие оклики и опросы встречали каждого проходящего. Но исключительное впечатление овладело мной, когда я вступил в ратушу. Здесь шла тяжелая борьба, организованная, серьезная. Следы величайшего утомления лежали на всех лицах, ни один голос не звучал натурально. Все хрипели тяжко. Только старые лакеи, в их странной форме и треуголках, сохраняли благодушный вид. Эти рослые люди, обыкновенно внушавшие такой страх, частью намазывали бутерброды, нарезали ветчину и колбасу, частью же выдавали огромные корзины, наполненные провиантом, посланцам от баррикад. Они превратились в заботливых «хозяек революции».
В ратуше я встретил скрывшихся со страху членов временного правительства Тодта и Чирнера. Они вернулись к исполнению своих обязанностей и, подобно теням, молча сновали взад и вперед, исполняя тяжелое дело. Один только Хойбнер сохранил всю свою энергию, но вид его возбуждал жалость: лихорадочный огонь светился в его глазах, он не заснул ни на минуту в течение семи дней. Мое появление он приветствовал с радостным чувством, считая его хорошим предзнаменованием для защищаемого дела. Он пришел в соприкосновение с элементами, о которых в вихре событий не мог составить себе определенного представления.
Один только Бакунин сохранил ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя и он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня на одном из матрацев, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту. Рядом с ним сидел очень молодой поляк (галициец), по имени Хаймбергер [Haimberger]. Это был скрипач, для которого Бакунин недавно просил рекомендации к Липинскому. Бакунин не хотел, чтобы этот совершенно юный и неопытный человек, страстно привязавшийся к нему, втянулся в водоворот событий. Теперь он встретил его на одной из баррикад. Он взял его с собой в ратушу и каждый раз, когда тот вздрагивал от пушечного выстрела, давал ему здорового пинка. «Это тебе не скрипка, – говорил он ему, – оставался бы дома, музыкант».
От Бакунина я узнал кратко и точно обо всем, что произошло за время моего отсутствия. От решенного в те дни отступления отказались, так как боялись, что оно подействует деморализующим образом на прибывшие многочисленные отряды. Напротив, жажда битвы была так велика и силы защитников так значительны, что еще можно было успешно бороться с солдатами. Однако и войск прибыло за это время немало, и недавно комбинированная атака на сильную Вильдруффскую баррикаду имела успех. Прусские солдаты отказались от битвы на улицах и приняли другую тактику: они занимали дом за домом, проникая туда через пробитые стены. Можно было предвидеть, что защита на баррикадах станет бесполезной и что враг медленно, но верно приблизится к ратуше, где заседает временное правительство. Бакунин предложил поэтому снести в погреба ратуши наличные пороховые запасы и взорвать ее, когда приблизятся войска. Городская управа, продолжавшая заседать где-то в задней комнатке, самым решительным образом протестовала против этого. Он, Бакунин, настаивал на необходимости этой меры. Но его перехитрили, удалив из ратуши весь порох и, кроме того, заручившись сочувствием Хойбнера, которому Бакунин ни в чем не противился. Таким образом, решено было, ввиду того, что дух восставших бодр, завтра с рассветом начать отступление в Рудные горы, причем молодому Цихлинскому поручено взять на себя стратегическое прикрытие дороги на Плауен.
Я спросил о Рёкеле. Бакунин ответил коротко: со вчерашнего вечера его более не видели. Возможно, что он попался в плен – он стал чересчур вспыльчив. Я со своей стороны сообщил обо всем, что видел по дороге в Кемниц и обратно, о хорошо вооруженных отрядах, о кемницкой муниципальной гвардии в несколько тысяч человек. Во Фрайберге я наткнулся на отряд в четыреста солдат-резервистов, шедших в превосходном порядке на помощь народным борцам, но задержавшихся там, чтоб отдохнуть от усиленного марша. Не решались, очевидно, прибегнуть к энергичному захвату обывательских телег. Было ясно, что, перешагнув лояльные границы, можно было бы значительно содействовать притоку свежих боевых сил.
Меня попросили немедленно отправиться обратно, чтобы передать этим людям согласие временного правительства на эту меру. Тут же вызвался проводить меня мой старый друг Маршалль фон Биберштайн, который в качестве члена временного правительства являлся для передачи такого рода приказаний гораздо более подходящим человеком, чем я. Этот крайне деятельный революционер, совершенно измученный бессонницей и охрипший до полной потери голоса, пошел со мной из ратуши описанным выше трудным путем на свою квартиру в Плауенском предместье. Там он надеялся в ту же ночь достать для нас у одного знакомого кучера экипаж и заодно проститься с семьей, так как думал, что расстается с ней надолго.
В ожидании кучера среди спокойной беседы с дамами мы поужинали и напились чаю. Рано утром после ряда приключений мы добрались до Фрайберга, где я сейчас же принялся за розыски знакомых начальников отряда резервистов. Маршалль приказал им запастись по деревням телегами и лошадьми. Когда отряд отправился наконец в Дрезден, меня снова охватило страстное желание вернуться туда. Маршалль решил отправиться далее в глубь страны, чтобы выполнить и там свою задачу, и мы с ним расстались. С экстренной почтой я тронулся обратно от высот Рудных гор по направлению к Тарандту и в коляске заснул.
Вдруг меня разбудили громкие крики: почтальон с кем-то яростно спорил. Открыв глаза, я с величайшим изумлением увидел, что вся дорога занята вооруженными людьми, идущими не к Дрездену, а оттуда, и некоторые из них пытались воспользоваться экипажем, ссылаясь на усталость. «Что это значит? – воскликнул я, – куда вы идете?» – «Домой, – ответили мне, – в Дрездене все кончено! Там, за нами, в коляске едет временное правительство».
Я стремительно выскочил из экипажа, оставив его в распоряжение усталых милиционеров, и побежал вперед по крутой дороге навстречу коляске, навстречу пришедшему в отчаяние временному правительству. Действительно, в элегантном наемном экипаже, медленно поднимавшемся в гору, сидели Хойбнер, Бакунин и энергичный секретарь почтового управления Мартин [Martin], оба последние с ружьями в руках. На козлах уместился почти весь секретариат. Из толпы милиционеров, следовавшей позади, наиболее уставшие цеплялись за экипаж, пытаясь взобраться на него. Я быстро вскочил туда. Прежде всего я оказался свидетелем странного разговора между владельцем экипажа и наемным кучером временного правительства. Этот человек умолял пощадить экипаж. Его слабые рессоры не могут вынести такой тяжести, и потому он просил не цепляться на него ни сзади, ни спереди.