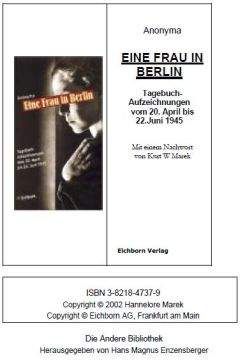Впрочем, я не знала бы, как я должна была бы отвечать на этот о моем мужчине, даже если бы я желала быть честной. Без войны мы были бы давно в браке с Гердом. Когда Герд получал, однако, повестку, он больше не хотел. «Военных сирот производить на свет? Нет, не принимается в расчет, я знаю, что происходит». Так оставалось до сегодняшнего дня. И все же мы чувствуем себя так же скрепленными как окольцованные. Только что я ничего больше не слышала о нем уже 9 недель; последняя почта прибыла от линии Зигфрида. Я не знаю больше, как он выглядит. Все фотографии я сама уничтожила, включая единственную оставшуюся в моей сумочке, из-за формы. Мне страшно, хотя он всего лишь только унтер-офицер. Во всем доме удалили все, что напоминает о солдате и могло бы возбуждать русских. И каждый сжигает книги. По крайней мере, они дают нам еще тепло и суп, в то время как они исчезают в дыму.
Не успели мы употребить наше солодовое кофе с бутербродами с маслом, как прибыла дружина Анатоля, для которой мы - вид ресторана - только, что гости приносят сами корм. Хороший тип на этот раз на этот раз, лучший, из тех, что я видела до сих пор: Андрей, фельдфебель, по профессии школьный учитель. Тонкий череп, синий как лед взгляд, тихий и умный. Первая политическая беседа. Это не настолько трудно, как можно было подумать, так как все эти политические и экономические слова очень похоже - это иностранные слова. Андрей - ортодоксальный марксист. Он не винит Гитлера лично в войне, а капитализм, который породил Гитлера и тонны оружия. Он полагает, что немецкая и русская экономики дополняют друг друга, что Германия, построенная по социалистическим принципам, стала бы натуральным партнером России. Эта беседа принесла мне пользу, несмотря на предмет обсуждения, которым я не настолько владел как Андрей. Очень просто, один из них обращалась со мной как с равноценной собеседницей, при этом меня не ощупывал меня глазами, как кусок женщины, и даже не смотрел на меня, как до сих пор все другие.
В наших комнатах все утро кто-то приходил и уходил. Андрей сидел на диване и писал отчет. До тех пор пока он там, мы чувствуем себя уверенными. Он принес русскую армейскую газету, я расшифровывал знакомые имена Берлинских районов.
Чувство полного открытого бытия наполняет нас всегда и постоянно. Если мы одни, то каждый звук, каждый шаг пугает нас. Вдова теснится возле кровати господина Паули, в то время как я пишу это. Часами мы сидим в темной, ледяной комнате. Мы принадлежим Ивану все сверху до низу. Почти; так как есть еще в нашем блоке незамеченные члены семей, которые живут с пятницы в подвале. Наши мужчины, так кажется мне, должны чувствовать себя еще грязнее, чем мы, испачканные женщины. В очереди за водой женщина рассказывала, как в ее подвале сосед кричал на нее, когда ее выдергивали Иваны: «Да иди те же! Вы же подвергаете опасности нас всех!»
Маленькая иллюстрация к закату Запада.
Снова и снова мне противна моя собственная кожа. Я не могу трогать себя и смотреть едва ли. Вспомнила, как мать рассказала часто о маленьком ребенке, которым я когда то. Ребенок знает, как им гордятся родители. И когда отец уходил в 1916 солдатом, он приказал на вокзале при прощании матери, что бы она не забывала надевать мне чепчик, прежде чем выводить меня на солнце. Лилейные шея и лицо должны были оставаться такими как есть, как это было тогда в моде, и что стремились поддерживать у дочерей. Такая большая любовь, такое большое количество издержек с чепчиками, термометрами для ванны и вечерней молитвой для грязи, в которой я нахожусь теперь.
Теперь назад, к воскресенью. Вспоминать сложно, все идет так запутано кувырком. Около 10 ч. были вместе все наши постоянные посетители: Андрей, Петька, Гриша, Саша, также маленький Ваня, который мыл нам снова посуду на кухне. Они ели, пили и болтали. Однажды Ваня сказал мне, с очень серьезным детским лицом: «Мы люди все злые. И я плохой, потому что вокруг – зло».
Анатоль появлялась, таща проигрыватель, я не знаю, откуда. Два его попутчика следовали за ним с дисками. И теперь они запускают одни и те же снова и снова, после того, как они пробовали большинство диски и отвергли, Лоэнгрина, или Девятую, Брамса или Сметану? Они играют рекламный диск текстильной фирме C. & A. в Spittelmarkt который дарили, если покупали больший кусок ткани:
- Идите в C. & A., там продаются прекрасные вещи... - так далее, в такт фокстрота. И Иваны это напевают в лучшем настроении, и тут я соглашаюсь с ними.
Уже водка вращается снова вокруг стола. Анатоль кидает свои жадные взгляды, которые я уже знаю, и вытесняет, наконец, всю компанию под довольно прозрачным предлогом. Так же, не имея ключа от двери, Анатоль придвигает кресло с подголовником. Я опять должна пойти на это. И то, что я обсудила рано поутру с вдовой у огня плиты, делает меня неподвижной как деревяшку. Я концентрируюсь закрытыми глазами на избежание нежелательного.
Он снова отодвигает кресло, когда вдова с суповой миской жаждет доступа. Когда вдова и я уже сидим за столом, господин Паули прибывает, прихрамывая из своей комнаты, причесанный, побритый и наманикюренный, в шелковом домашнем халате... Анатоль лежит на кровати, его усталые ноги свисают вниз, черные локоны спутаны. Он спит и спит легко дыша.
Анатоль спал как ребенок 3 часа, с нами с 3 врагами. Даже если он спит, мы чувствуем себя надежнее, чем одни, он - наша стена. Револьвер у него на боковом ремне.
Снаружи между тем война, центр курится, хлещут выстрелы.
Вдова несет бутылку бургундского, которое я захватила в при разграблении магазина, и наливает нам в кофейные чашки, на случай, если русские ворвутся. Мы говорим совсем тихо друг с другом, чтобы не разбудить Анатоля. Это благотворно действует на нас, снова быть вежливыми и любезными друг с другом, мы пользуемся затишьем. Душа отдыхает.
Около 16 часов проснулся Анатоль и убежал сломя голову по своим служебными обязательствами. Несколько позже снаружи у главного входа грохот. Дрожь, мое сердце выбивается из такта. Слава Богу, это всего лишь Андрей, школьный учитель с синим ледяным взглядом. Мы освещаем его, и вдова облегчено бросается ему на шею. Он улыбается в ответ.
Хорошая беседа с ним, на этот раз не о политике, а о человечности. Андрей скорее видит приятеля во мне, а не тело женщины. Он - фанатик, его глаза очень далеки, в то время как он говорит. Он уверен в непогрешимости своих догм.
Теперь я раздумываю довольно часто над тем, является ли мое немногое знание русского счастьем или бедой для меня. С одной стороны, у меня есть надежность, которая отсутствует у других. То, чем для них эти грубые звериные звуки, негуманные крики являются, мне, все же, кажется понятным мелодичным языком Пушкина и Толстого. Хотя я боюсь, страх, страх (с появлением Анатоля ослабевший немного); но, все же, я говорю с ними различая как людей, отличаю самых дурные от сносных, понимаю их мечтания, и их взгляд на происходящие. В первый раз я чувствую также мое преимущество. Немногие в этом городе смогут говорить с ними; они не видели их березы и деревни и крестьян в лубяных сандалиях и поспешные новостройки, которыми они гордятся - и теперь такими как я, землей под их солдатскими сапогами. С дрогой стороны те, которые не понимают ни слова, им легче от этого. Они остаются чуждыми этим мужчинам, могут возводить между собой пропасть и внушать себе, они как бы и не люди, только дичь, только скот. Я не могу этого. Я знаю, что они - люди как и мы; конечно, как кажется мне, на более низкой степени развития, чем более старый народ, они ближе к истокам, чем мы. Тевтонцы, пожалуй, вели себя так, похоже, когда они захватили Рим и брали себе приятно надушенных, искусно завитых, побежденных римлянок с педикюром. Причем бытие победившего - это непременно как красный перец на мясе.