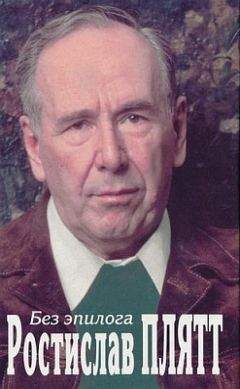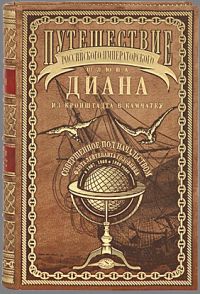Спектакль, некогда бывший просто солидным, значительным, стал театральным событием. И именно потому, что Завадский со всей страстью современного советского художника ощущал потребность приблизить лермонтовские образы к сердцу зрителя, показать своему народу его великого поэта живым и действенным сегодня. И не путем назойливых ассоциаций и «мостиков» в современность, а путем единственно верным: предельно глубоким и выразительным раскрытием авторской темы. Поэтому и называют сценическое решение Завадского юношески дерзким, что оно сочетается с образом гения, в двадцатилетнем возрасте создавшего философскую драму о добре и зле.
А третий «Шторм»? А «Петербургские сновидения»? На «Шторме» следует остановиться. Эта пьеса одного из зачинателей советской реалистической драматургии В. Билль-Белоцерковского, посвященная событиям Гражданской войны в России, стала как бы знаменем Театра имени Моссовета. Созданный весной 1923 года по инициативе передовых деятелей сцены и московских рабочих, театр наш был тогда самым ярким пропагандистом советской темы. Первый художественный руководитель и организатор театра народный артист РСФСР Евсей Осипович Любимов-Ланской отстаивал позиции правдивого, агитационно-броского искусства, раскрывающего романтический пафос простых трудовых будней, повседневной борьбы народа за социализм. Естественно, что Юрий Александрович Завадский, возглавивший театр с 1940 года, захотел, как бы принимая эстафету из рук Любимова-Ланского, вернуть «Шторм», к тому времени сошедший со сцены, в репертуар театра, и в 1951 году он заново поставил его.
Однако вторая редакция «Шторма», сделанная в несколько традиционной манере, успеха не имела и через несколько сезонов выбыла из репертуара. И вот теперь мерещился ему совсем новый вариант «Шторма».
…Приближалось пятидесятилетие Советского государства. Нужно готовить достойную великой даты премьеру. Новой пьесы нет или почти нет. Завадский предлагает… «Шторм». Недоумения, споры… Как, опять? В третий раз? Пойдет ли народ? Но Завадский, воспринимающий «Шторм», повторяю, как знамя театра, непреклонен. Объявляет состав исполнителей, рассказывает, что ему видится…
Вспоминаю, как многие участники «Шторма», и я в том числе, во всем поначалу сомневались… Ну как же так? Пьеса вся замешена на быте — и вдруг пустая сцена, прочь бороды, валенки.
Ни декораций, ни костюмов, ни гримов, только детали… А Завадский видел свое и оказался самым ищущим, самым молодым среди нас! На премьере этого своеобразного «Шторма» он обратился со сцены к зрителям (и это стало традицией каждого спектакля) и сказал о том, что именно на этом спектакле он не хочет обычного деления — вот тут, в зрительном зале, вы, смотрящие, а там, за рампой, мы, театр. Нет, он хочет, чтобы в этот вечер зрители и вся труппа театра, все вместе, отдались мыслями, чувствами, памятью тому великому времени, о котором сегодня вспоминаем, тем героям, которые умирали.
И вот этот «Шторм», очищенный от всего, что отвлекало бы от патетической темы, от страстной революционной ноты, звенящей в нем, с действием, то возникающим в зрительном зале, то перетекающим со сцены в него, с актерами, максимально приблизившимися к зрителю, — этот «Шторм» шел под дружные аплодисменты и получил полную поддержку. Обильная пресса объявила спектакль Завадского подлинно новаторским, и при обсуждении юбилейных премьер 1967 года «Шторм» вышел на первое место.
А «Петербургские сновидения»? Он создавал этот спектакль, приближаясь к своему восьмидесятилетию! И это — самая знаменитая из его премьер. Не зря он посвятил ее Вахтангову. Он готовился к ней давно, в частных разговорах, бывало, вдруг заговорит о «Преступлении и наказании», о том, как видится ему мир Достоевского, потом замолчит и уйдет мысленно куда-то…
Я не буду описывать самый спектакль, это сделано во множестве рецензий. Скажу лишь, что «Шторм» и «Сновидения» как бы иллюстрируют те два направления в его искусстве, о которых я говорил (Вахтангов и Станиславский).
В отличие от аскетичного «Шторма» «Сновидения» — очень интересный, сложно выстроенный спектакль с двойниками, видениями, карнавалом всяческих харь и наряду с этим с кусками пронзительной правды и берущей за душу темой Раскольникова и Сони. И все это — в оформлении художника А. Васильева, создавшего на сцене облезлый и мрачный скелет доходного дома, с лесенками, балкончиками, переходами. Все было насквозь пронизано духом и образностью Достоевского.
Я любил иной раз заглянуть в зрительный зал, когда шли «Виндзорские насмешницы», — вот уж где полной мерой отдавал Завадский дань театральности! Шумит-гремит на сцене радостный мир шекспировской комедии, мизансцены — одна забавнее другой, неистощимая изобретательность в гриме, костюмах, пир цвета, света, звон оркестра… Но вот уже и сцены ему мало, действие переплескивается в зрительный зал, и веселая толпа, вооруженная трещотками и бычьими пузырями на палках, с хохотом, гиканьем и свистом увлекает зрителей — в фойе… на ярмарку! Театр, театр во всей его заразительности!
А в «Объяснений в ненависти» И. Штока Завадский уберет со сцены решительно все. Пересечет пустую сцену световая дорожка, и пойдет по ней из глубины к рампе под четкий перебор гитары, на ходу надевая мундир, советский солдат Василий Воробьев. Подойдет совсем близко к зрителям и доверительно заговорит с ними о чем-то насущно важном и для них, и для него. И это тоже будет театр, Театр Завадского, вдумчивый, лирический, обращенный к душе и мыслям человека.
Последнее время Юрий Александрович не работал в театре регулярно, но каждый день, дома ли, в больнице ли, вызывал кого-то к себе, расспрашивал — словом, «держал руку на пульсе театра». И мне всегда казалось, что, пока он жив, он является неким сдерживающим началом во внутренней жизни театра, где всегда могут вспыхнуть закулисная возня, мелкие счеты, а он самым фактом своего существования «охранял окружающую среду от загрязнения».
Он иногда, особенно в последнее время, вызывал ироническое отношение к себе и внутри театра, и вовне своими, как он сам говорил, «донкихотскими взрывами». Тут иной раз бывали и утопические планы, и многое намеченное, но не реализованное, и наивная вера в отсутствие цинизма, но приходилось удивляться его неуемной энергии, вспыхивающей уже в период рокового течения болезни, когда он вдруг появлялся в ЦК, МГК, Министерстве культуры со своими планами реорганизации театрального дела. Что-то доказывал, о чем-то просил, что-то требовал…
Я вспоминаю, как в тяжелые траурные дни трудно было освоиться с происшедшим. Как же так?! Мы не увидим его на ближайших наших премьерах, не услышим его снайперски точные до последних дней замечания актерам, не приникнем, как к роднику, к незамутненной чистоте его художественного вкуса?..