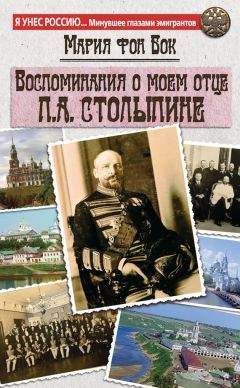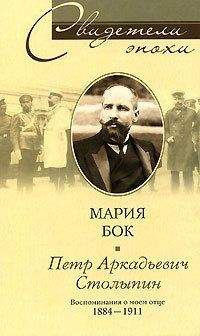Рассказывал папа и о своих путешествиях, которых много совершил в детстве, когда его мать подолгу живала в Швейцарии со своей дочерью, а мой отец с братьями жили с дедушкой в Вильне и Орле, где учились. На лето они ездили к бабушке и совершали по Швейцарии много экскурсий, причем непременно в третьем классе, «чтобы мальчики не баловались».
Во время одной из таких экскурсий мой отец спас жизнь одному молодому человеку, поскользнувшемуся в горах и повисшему над пропастью. Папа с опасностью для жизни спас незнакомца, и рассказ об этом приводил меня в восторг, заставляя мечтать о геройских подвигах, о спасении ближнего, о благодарных слезах спасенных…
Прошло после инцидента в Швейцарии много лет, и вот к моему отцу, уже председателю Совета министров, является во время приема какая-то дама, оказавшаяся матерью спасенного юноши.
К изумлению моего отца, она вдруг говорит ему:
– И зачем вы, ваше высокопревосходительство, спасли тогда в Швейцарии моего сына? Если бы вы только знали, какой из него вышел негодяй. Зачем он только на свете живет и всех нас мучит!
Вот они, благодарные слезы спасенных!
Вернулась я в Колноберже успокоенной, окрепшей, богатой новыми впечатлениями и навсегда полюбившей Германию.
На следующий год мы снова ездили туда, но на этот раз лишь до Кенигсберга и втроем: папа, мама и я. Из этой поездки мне запомнилась почему-то прогулка около моря в Кранце. Папа и мама тихо ходили по пляжу, разговаривая и любуясь закатом; я собирала камешки и то и дело подымала голову и останавливалась, подавленная величием моря, его полным своей особой жизни спокойствием и нежными перламутровыми тонами воды и неба. Кажется, я тогда впервые поняла, что такое природа и что она дает человеку.
В этом году я получила ко дню своего рождения подарок от папа, который мне доставил исключительное удовольствие. Как назло, в этот день в шесть часов утра папа должен был ехать в Ковну. Совсем рано я слышу тихие шаги и сквозь сон вижу наклонившуюся надо мной фигуру папа, который меня крестит, целует и ставит что-то на ночной столик. Вставая утром, я вижу, что это маленький бюст Пушкина, а под ним бумажка, где рукой папа написано: «Доставляй нам и впредь столько радостей, как за истекшие шестнадцать лет».
Этой же зимой я заболела перемежающейся лихорадкой, в такой тяжелой форме, что пролежала четыре месяца. Я как раз кончала курс гимназии, и эта столь неожиданная в ковенском климате болезнь приводила меня в отчаяние. Но пришлось покориться и чуть ли не со слезами дать мама унести все учебники, которыми я себя обложила в постели.
В это время я особенно поняла и оценила всю силу любви моего отца ко мне. Он с первого же дня уступил мне свою кровать, чтобы я могла спать рядом с мама, а сам до конца моей болезни проспал рядом со спальной в шкапной, на маленькой железной кровати, слишком короткой для его громадного роста. Он переносил меня на руках в другую комнату, когда спальня проветривалась. А ведь его правая рука была больная!
Утром и днем ко мне то и дело наведывалась мама, а вечер был временем папа. Днем он лишь урывками заходил ко мне между занятиями, а вечером, после обеда, всегда уделял мне часок.
Вначале, во время приступов лихорадки, я, конечно, ничего не понимала, но потом, когда я, сильно ослабевшая, часами лежала без движения, какой радостью наполнялось сердце, когда издали слышались шаги папа. Вот он сейчас войдет, поцелует, заботливо спросит, как и что я ела, есть ли у меня еще запас икры, которой меня велел кормить доктор, и, если все хорошо, весело скажет:
– Давай кисленькую, и сразимся в дамки.
«Кисленькими» были мои монпансье, которыми, как и икрой, не забывала меня снабжать мама, принося мне, кроме того, почти с каждой прогулки подарки. Я угощала папа, и начиналась партия в шашки, которую я почти всегда проигрывала.
А иногда мы просто разговаривали: часто говорили про прочитанное или папа, всегда охотно, отвечал на все вопросы, рождавшиеся в моем шестнадцатилетнем мозгу, или сам рассказывал мне что-нибудь.
И теперь, через тридцать с лишком лет, когда я вспоминаю эти вечера, становится тепло и светло на душе, укрепляется вера в людей, в смысл жизни, в призвание человека жить для блага ближнего.
С наступлением весны стали возвращаться ко мне силы, и наконец наступил день, когда я смогла дойти до столовой и когда папа за обедом сказал:
– Сегодня, первый раз после четырех месяцев, с нами обедает наша старшая дочь.
Скоро после моего первого выхода начались сборы в Бад-Эльстер, куда меня послал доктор. Решили ехать всей семьей, с двумя гувернантками и горничными, и в мае двинулись в путь.
Это путешествие положило грань между нашей счастливой, уютной жизнью в Ковне, когда мой отец, не будучи еще завален работой, уделял нам достаточно времени, чтобы иметь возможность входить во все наши интересы и жить нашей жизнью.
После Эльстера начался новый период, в который, будучи губернатором, папа настолько ушел в свою службу, с такой кипучей энергией погрузился в свои новые обязанности, что семье он мог уделять очень мало времени, и то старался провести это время с мама, так что мои младшие сестры не знают, что такое прогулки с папа, разговоры и чтение с ним.
В середине мая 1902 г. мы весело выехали в Эльстер. Было нас десять человек, так что в Берлине, где мы проездом останавливались на два дня, пришлось в гостинице занять целую амфиладу комнат. Я была еще очень слаба, и эта остановка была сделана, чтобы дать мне отдохнуть, а папа поехал один вперед, чтобы нанять нам в Эльстере виллу.
Ни дорогой, ни в Берлине ничем я не интересовалась, все больше лежала, и тянуло меня только домой, в кровать, отдыхать, отдыхать… не слышать ни утомительного шума поезда, ни резких свистков локомотива, не видеть чужих людей и суеты кругом себя.
Но только мы приехали в Эльстер, все изменилось как по мановенью волшебного жезла.
На вокзале встретил нас мой отец, помолодевший и жизнерадостный, и сразу стал оживленно рассказывать, что нашел нам очень удобное помещение – целый этаж прекрасной виллы, и о том, как любезно встречали его везде хозяйки пансионов, и как в одном месте, желая его подкупить знанием русского языка, немка, хозяйка виллы, сказала ему, приподымая свой фартучек двумя пальцами и делая глубокий реверанс:
– Ми вас любик.
От вокзала до курорта приходилось в то время ехать на лошадях километра четыре.
Дивная, гладкая дорога, каких я никогда не видала, шла через поля и луга, за которыми виднелся темный, густой хвойный лес на горе. Сам Эльстер лежит довольно высоко, так что, когда подъезжаешь к нему, уже в поезде чувствуется, насколько воздух становится легче, когда же после вагона садишься в коляску и вдыхаешь его полной грудью, кажется, будто новая жизнь вливается в тебя.