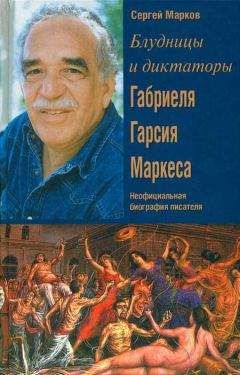Хулио Кальдерон опубликовал в выпускаемой им лицейской «Литературной газете» вслед за «Навязчивым психозом» и другие сочинения Маркеса под псевдонимом Хавьера Гарсе-са: стихотворения «Если кто постучит в твою дверь…» (первая строка), «Сонет о невесомой школьнице», рассказы «Колос», «Драма в трёх актах», «Гибель розы».
А красивая блондинка Сесилия Гонсалес (которую ласково и беспощадно называли «однорукой малышкой», потому что одну руку потеряла и скрывала это под пончо) «блудливого» Габриеля бросила ради поэта, выпустившего к тому времени книгу (имени история не сохранила). Быть может, правы те, кто утверждает, что творчество, начавшееся с несчастной любви, — счастливое? Юный Маркес написал стихотворение, в чём-то созвучное «Желанию славы» Пушкина («Желаю славы я, чтоб именем моим / Твой слух был поражён всечастно…»), которого уж точно тогда ещё не читал.
Утешала другая, гораздо старше по возрасту, жена врача, которую, пользуясь отсутствием мужа, Габито посещал в их старинном колониальном особняке, где она принимала его на широком супружеском ложе.
На каникулы он возвращался в Сукре, где встречал прототипы своих будущих произведений и где его почти неизменно ждали известия о пополнении — законном или незаконном — семьи. В конце 1943 года Габриель Элихио, пока Ауиса вынашивала очередного сына, обзавёлся и очередным побочным ребёнком, что вызвало гнев жены и законной старшей дочери Марго, которого, впрочем, хватило ненадолго. А у Габито на каникулах также случился роман — со страстной негритянкой, которую он окрестил Колдуньей (напомним, в предпоследней главе «Ста лет одиночества» появляется ненасытная и беспредельная в сексе чернокожая Колдунья). Она являлась супругой полицейского. «Как-то в полночь, — рассказывал брат писателя, Луис Энрике, — на мосту Габито встретил полицейского. Тот шёл домой к своей жене, а Габито шёл из дома полицейского, от его жены. Они поздоровались, полицейский справился у Габито о его семье, Габито справился у полицейского о его жене. Это то, что рассказывает мать. Можете представить, сколько всего она умалчивает из того, что ей известно… Полицейский попросил у Габито прикурить, и, когда тот к нему приблизился, поморщился и сказал: „Карахо, Габито, ты, наверно, в „Ла Оре“ был, от тебя за милю несёт шлюхой, козёл не перепрыгнет!“». Через пару недель полицейский застукал Маркеса в постели жены и вознамерился заставить в одиночку сыграть в русскую рулетку. Но великодушно простил, потому что придерживался тех же политических взглядов, что и отец Гарсия Маркеса.
К тому же Габриель Элихио излечил его от застарелой гонореи, чего другим докторам не удавалось.
Младший брат, Луис Энрике, и в самом деле стал определённым наставником Габо — вместе с их музыкальной группой будущий писатель в конце 1945 года гулял много дней и ночей напролёт, впервые в жизни участвуя в пьяных оргиях с бесчисленным количеством участниц и участников. На Рождество он почти на две недели «занырнул» в бордель городка Махагуале, прикипев там к роскошной блуднице. «Это всё из-за Марии Алехандрины Сервантес, — вспоминал Маркес. — Потрясающая женщина! Я познакомился с ней в первую ночь и потерял из-за неё голову во время самой долгой и разгульной попойки в моей жизни».
В характеристике из лицея наряду с положительными моментами отмечалось, что Гарсия Маркес интересуется коммунистическими идеями, читал запрещенный «Капитал» Маркса (Сипакира была своеобразной ссылкой для вольнодумцев-преподавателей, исповедовавших либерализм и даже марксизм) и товарищам давал читать еретическую книгу Нострадамуса «Центурии» (сочетание неплохое для формирования магического реалиста).
Двадцать пятого февраля 1947 года, сдав экзамены (которые непостижимым образом иллюстрировал стихами), Маркес поступил — по настояниям матери — на факультет права Национального университета Колумбии. Но к середине учебного года убедился в том, что поэзия интересует его всё же более юриспруденции. И во время лекций в аудиториях, и на переменах в университетском дворике он читал стихи, поэмы, баллады испанских, французских, английских, немецких, американских, японских поэтов, многое с ходу запоминая, и затем друзьям и девушкам уже декламировал наизусть, что имело успех. По выходным дням, когда лил дождь, он с утра за пять сентаво покупал трамвайный билет и допоздна катался по кольцу, поглядывая в окно, читая книги. Будни он проводил на нудных лекциях, а заканчивал дни в одном из уютных кабачков на главной, Седьмой, каррере, идущей с юга на север. В ту пору там было множество бодег и бодегит, похожих на парижские кафе: «Чёрнаякошка», «Трисосны», «Колумбия», «Мельница», «Астурия». В них, как в парижских кафе 1920-х, увековеченных Хемингуэем в «Празднике, который всегда с тобой», а также Ремарком, Миллером, собирались совсем молодые, как сам Габо, и уже именитые поэты, прозаики, критики, журналисты — Хорхе Рахас, Леон де Грейф, Эдуардо Карранса… Делились новостями, спорили о литературе, много курили, пили. В пансионе Габриель ночевал редко, предпочитая недорогие, но гостеприимные публичные дома, в которых искали вдохновения на завтра многие поэты. Маркес читал стихи проституткам (как за несколько десятков лет до этого на другом конце земли Сергей Есенин «читал стихи проституткам и с бандитами жарил спирт») — его там любили.
Великое для становления художника явление, sine qua non, как говорили древние римляне, то есть условие, без которого невозможно, — окружающая творческая среда. Питательная среда. Важную роль среда сыграла в судьбах Пушкина, Бальзака, Льва Толстого, Тургенева, Бунина, Чехова, Хемингуэя…
Однажды прохладным августовским утром, после бурной ночи зайдя в кафе «Астуриас» поправиться чашкой кофе с ромом, Хорхе Саламея, непререкаемый в Боготе авторитет для начинающих литераторов, заговорил с Габриелем об «одном потрясающем австрийском писателе, непохожем на всё, что было прежде», авторе романов «Америка», «Процесс», «Замок» Франце Кафке. Саламея пересказывал эпизоды произведений с таким восторгом, что, придя в университет, на первой же лекции Габриель стал спрашивать товарищей, нет ли у кого хоть чего-нибудь этого Кафки. Однокашник из богатой семьи Хорхе Альваро Эспиноса вечером в пансионе дал ему книгу «Превращение». (По другой версии, Кафку он всё-таки читал ещё в школе.)
«Мне было девятнадцать, — вспоминал Маркес, — придя в свою комнату в пансионе, я сбросил пиджак, ботинки, лёг на кровать, открыл книгу, которую дал однокурсник, и прочёл: „Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лёжа на панцирно-твёрдой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделённый дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. Что со мной случилось? — подумал он. Это не было сном…“ „Чёрт побери! — подумал я, почувствовав дрожь во всём теле, и закрыл книгу. — Ведь именно так говорила и моя бабушка! Значит, такое возможно в литературе! А коли так — это по мне. Я тоже буду так делать“. Я-то был уверен, что подобное в литературе не дозволено, что литература совсем другая, академическая и рационалистическая. И я сказал себе: если можно выпустить джина из бутылки, как в „Тысяче и одной ночи“, и можно делать то, что делает Кафка, значит, существует иной путь в литературе. В ту ночь я окончательно понял, что был прав, не пойдя по пути, по которому направлял отец: он хотел, чтобы я стал врачом, фармацевтом или священником, которые „живут лучше всех“».