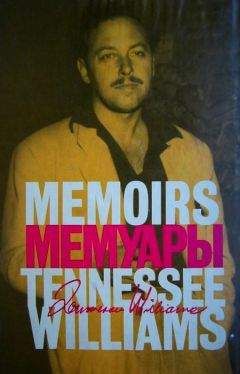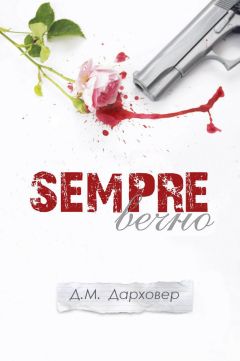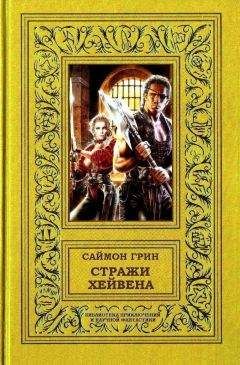Мейби был настроен против меня и против Лемюеля Эйрса. Он постоянно намекал, что Эйрс, аспирант, приехавший из Принстона, был гомиком — что и я подозревал, но только я считал его очень талантливым, совершенно не заслуживавшим преследований Мейби.
(В скобках замечу, что однажды — через много лет, в 1943 году — когда я жил на Западном побережье, работая на МГМ — не работая, а получая от них зарплату, которую они на законных основаниях обязаны были платить мне еженедельно — Лем Эйрс пригласил меня на ночь в его очаровательный домик в Беверли-Хиллз. Когда я проснулся утром, передо мной было чарующее видение — совершенно голый Лем, разгуливающий по второму этажу. Он сердечно приветствовал меня. Конечно, у меня в голове крутилось: «Давай, Лем, давай, я уже видел тебя голым». Но застенчивость остановила меня, и я потерял этот последний мой золотой шанс навсегда…
Лем и вправду был почти тем же прекрасным юношей с весьма полезными наклонностями, на которого я когда-то положил глаз, не делая попыток соблазнения, с единственным исключением… нет, немножечко благоразумия…
Могу ли я честно сказать: «Je ne regrette rien»[19], словами «воробышка» Монмартра?..)
Тем единственным летом в Айове я все еще был одинок и привык бесцельно бродить по ночным улицам, чтобы спастись от душной жары моей комнаты. Громадные деревья придавали городу старомодное очарование. Ночами он выглядел совершенно по-южному. Я был одинок и напуган. Я не знал, что меня ждет дальше. И, наконец, окончательно убедился, что я извращенец, но совершенно не представлял себе, что с этим делать.
Я даже не знал, как соглашаться — в тех редких случаях, когда мальчики сами предлагали мне себя.
Вчера, в субботу, произошло очень важное и очень приятное событие. В компании молодого друга я провел пять часов, гуляя по аллеям Центрального парка, в который мы вошли с «гейского» угла — Семьдесят второй улицы и Централ-парк-уэст. Мы купили лимонное и вишневое мороженое, и долго прогуливались за озером, где бывают в основном гомосексуалисты. И их, симпатичных и представительных, там полно даже днем. Многие из них вели себя явно «нарочито», бравируя своей голубизной — что делало их — да еще в таком количестве в одном месте — непривлекательными для меня. Мне нравилась «голубая» компания, когда я был молодым и жил в общежитии АМХ. Но мои ближайшие друзья, голубые, как и я, никогда не выставляли это напоказ.
Я знал несколько совершенно «открытых» типов в Новом Орлеане, когда я впервые начал «выходить». Там был, например, один тип — буду называть его Антуан — который гулял по улицам Французского квартала с маленькой хрустальной бутылочкой жидких ароматных солей и при приближении женщины или девушки останавливался, прислонялся к стене и громко шептал «Отрава» — и страстно нюхал свой пузырек, пока леди не проходила; и даже после этого он делал вид, что никак не может прийти в себя…
Он был для меня слишком несерьезным, но мог быть и серьезным, и очень одаренным, как большинство нам подобных. Он не был выдающимся художником, но обладал тонким и очень эффективным нюхом, что сделало его позднее весьма процветающим дизайнером в Нью-Йорке.
Помню один вечер, когда Антуан, у которого была очаровательно украшенная квартира на Тулузской улице, представлял спектакль «Четверо святых в трех актах» — все действующие лица в котором были гомосексуалистами — и они не бравировали этим, а играли с чувством стиля, и это было лучшее представление Стайн, которое я видел в жизни.
Я помню, как вернулся в Новый Орлеан после моего первого «выхода» в более благоразумно организованный гомосексуальный мир Нью-Йорка и пытался перевоспитать своих голубых друзей по кварталу, заставить их вести себя не в стиле пародии на другой пол. Я говорил им — тем, кто слушал — что такое поведение делает их «невкусными» в сексуальном плане для любого человека, заинтересованного в сексе… все пролетало мимо ушей, конечно.
Естественно, что «сестрички», «пидовки» — все это насмешка над собой, к которой гомосексуалисты принуждены нашим обществом. Самые неприятные формы этого явления быстро исчезнут, по мере того, как движение за права гомосексуалистов добьется успехов в более серьезных направлениях своей борьбы: обеспечить гомосексуалистам — не понимаемому и гонимому меньшинству — свободное положение в обществе, которое примет их, только если они сами будут уважать себя, хотя бы в такой степени, чтобы заслуживать уважения индивидуально — и я думаю, что степень этого уважения будет тогда куда выше, чем обычно предполагается.
Я не сомневаюсь, что «геи» обоих полов гораздо более чувствительны — что значит — более талантливы, чем «натуралы»…
(Почему? Компенсация за многое другое.)
Продолжая это счастливое настроение самопоздравления, я обнаружил, что у меня образовался — или образуется — личный шлейф, по крайней мере, в Нью-Йорке. Вчера, например, я остановился с приятелем у маленького недорого мужского магазина. Мне на глаза попался прекрасный костюм из хлопка и полиэфира бронзового цвета, который прекрасно на мне сидел; требовалась лишь небольшая подгонка. Когда я достал свою кредитную карточку, владелец стал суетиться вокруг меня, и чтобы доказать свое уважение, подарил шелковый шарф за тридцать долларов, прекрасно дополняющий костюм. Я надену его в среду, на предстоящем «полуденном» ток-шоу с Канди Дарлинг, устраиваемом, чтобы «раскрутить» «Предупреждение малым кораблям».
Несмотря на то, что я полностью выдохся после «совиного» спектакля (начавшегося в десять часов вечера) «Предупреждение малым кораблям», я вышел с нашей звездой, Хелен Кэррол, на встречу с Дональдом Мэдденом — единственным актером, кроме Брандо — нет, неправда, к этому кружку избранных присоединился Майкл Йорк, образовав трио, для которого я писал пьесу, или, по крайней мере, роль в пьесе, два раза и больше. Мне под шестьдесят, но я еще способен влюбляться, и во время репетиций «В баре токийского отеля» — несмотря на то, что находился на грани психического и физического срыва — я «сошел с ума» от Мэддена, но постарался не объявлять об этом, потому что он был занят в моей постановке.
Мои чувства к Мэддену постепенно перешли в платоническую форму, основанную на глубоком уважении к нему как к актеру. Мне кажется, в Штатах нет актера лучше… (Может, Майкл Мориарти бросит когда-нибудь вызов этому выдающемуся явлению.)
Хочу рассказать вам еще об одной главной любви в моей жизни после Хейзл и Салли — о первой большой мужской любви. В начале лета 1940 года мой друг Пол Бигелоу посадил меня на поезд в Бостон, откуда я должен был отправиться в Провинстаун — о нем я до этого и не слышал. Мне, в конце концов, удалось выбить из Театральной гильдии стандартный контракт на «Битву ангелов», какой заключается с членами Гильдии драматургов, вместо «понимания», которое они предлагали мне сначала; это значило, что до постановки я должен был получать сто долларов в месяц, а не пятьдесят. И я чувствовал себя богатым человеком. Но Бигелоу решил, что мне лучше уехать из города. В те дни меня, как пешку, постоянно сажали то на поезд, то в автобус. А может, мне самому этого хотелось. Хотелось — и получал. Как все были добры ко мне в те далекие дни! Я серьезно, это не шутка…