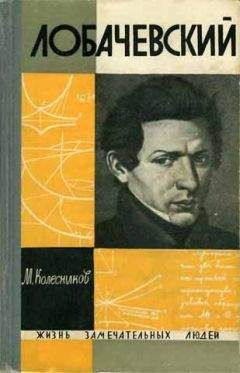Если дети великого геометра и не наследовали силы его ума и интереса к науке, то могли наследовать некоторые из других его ценных качеств. Во всяком случае, по закону наследственности на детях Лобачевского отразились следы напряженной мозговой деятельности их отца – той деятельности, которая обогатила науку своими открытиями. Наконец они должны быть дороги почитателям Лобачевского как люди, которых Лобачевский глубоко любил.
Мы упоминали здесь имя Кондыревых, родственников Вагнера: это семья того самого инспектора студентов Кондырева, который так враждебно относился к Лобачевскому в молодости. Теперь нам известно, что впоследствии они жили не только в мире, но Лобачевский крестил даже детей у Кондырева. Приписать ли это незлобивости Лобачевского, или тому, что Лобачевский сознавал и свою вину перед Кондыревым; во всяком случае, этот эпизод говорит в пользу хорошего сердца нашего геометра.
Мы заключим наш очерк частной жизни Лобачевского рассказом о том, как относилось в то время образованное общество Казани к воображаемой геометрии Лобачевского.
Умерла богатая родственница жены Лобачевского, и на похороны был приглашен архиерей, хороший знакомый семьи. Во время надгробной речи архиерей, забыв, что покойной было шестьдесят, а не семьдесят лет, произнес: «И чем была она семьдесят лет тому назад?» Лобачевский, стоявший впереди и знавший лета покойной, с удивлением и с усмешкой взглянул на архиерея; однако же тот спохватился и продолжал: «Тогда она была воображаемой точкой или существовала только в воображении своих родителей».
После похорон Лобачевский с неудовольствием заметил архиерею, что напрасно он путает математику в свои надгробные речи. По тону математика архиерей заметил, что причинил ему неудовольствие, и сказал: «Это я тебе отплатил за то, что ты меня хотел смутить своим взглядом».
Итак, «воображаемая» в простом понимании значило «несуществующая». Современники Лобачевского, очевидно, не предвидели и тени того, как отнесется потомство к его научной деятельности, но с большим уважением смотрели на ордена, украшавшие его грудь: Анны первой степени, Станислава и Владимира третьей степени.
Лобачевский был отрешен от непосредственного участия в делах университета за десять лет до своей смерти.
В 1845 году он был единогласно избран ректором университета на новое четырехлетие, а в 1846 году, 7 мая, кончился срок пятилетия его службы как заслуженного профессора. Совет Казанского университета снова вошел с прошением об оставлении Лобачевского в должности профессора еще на пять лет. Несмотря на то, вследствие какой-то темной интриги от министерства последовал отказ. Лобачевский, которому было в то время только пятьдесят два года, должен был оставить почти одновременно и должность ректора, и кафедру, когда он изобретал все новые формы изложения своих новых мыслей для того, чтобы сделать их сколько-нибудь доступными для современников; для молодых слушателей, которым он с таким восторгом поверял свои глубокие мысли. Это был страшный удар, но, по всей вероятности, наносившие его не понимали, что творили…
Мы не будем распутывать сети темных интриг, лишивших знаменитого геометра кафедры в то время, когда он имел на нее естественное право. Главных виновников уже, конечно, нет на свете, потомки же их получат незаслуженное наказание от раскрытия истины. Итак, умолчим…
Новый преподаватель математики, занявший кафедру Лобачевского, был А.Ф. Попов, ученик Лобачевского, основательно знавший свой предмет, но мало проникнутый идеями своего учителя и во всех отношениях представлявший резкую ему противоположность. В настоящее время в Германии профессора оставляют кафедру только по болезни или в глубокой старости, но всегда имеют счастье видеть на своей кафедре тех учеников, с которыми у них наибольшая умственная и нравственная связь. Лобачевский лишен был и этого последнего утешения. Приведем рассказ, слышанный Вагнером от студентов-математиков, как Лобачевский ввел в аудиторию своего преемника: «Аудитория эта (так называемая математическая), небольшая, темная, была направо от входной двери и возле другой аудитории – громадной залы в пять окон. В этой большой аудитории читался, между прочим, и латинский язык учителем гимназии – страшным чудаком Лукашевским. В то время, когда Лукашевский входил на кафедру и начинал громко скандировать латинские вирши, в аудитории Лобачевского, до прихода его, поднимался обыкновенно страшный шум. В такт со скандированием стихов студенты прихлопывали руками и пристукивали ногами, что производило чудовищное шаривари; но достаточно было появиться в дверях помощнику инспектора студентов и произнести: „Господа! Николай Иванович приехал“, – и в аудитории наступала мертвая тишина.
В одну из таких торжественных минут тихо вошел Лобачевский вместе с А.Ф. Поповым. Подойдя к скамейкам, которые поднимались амфитеатром кверху, Лобачевский поклонился и сказал:
– Господа, я имею честь представить вам нового профессора, Александра Федоровича Попова.
Затем он снова поклонился и тихо вышел из аудитории…»
Из формы этого рассказа видно, что слушатели Лобачевского хорошо понимали горестные чувства, волновавшие сильную душу их учителя, и тогда уже сознавали свою утрату.
Вдобавок ко всему Лобачевский потерял и в материальном отношении. Лишаясь профессорского звания, он должен был довольствоваться пенсией, которая при старом уставе составляла 1 тысячу 142 рубля и 800 рублей столовых. Свои обязанности ректора Лобачевский исполнял, не получая никакого вознаграждения, и это бескорыстное служение университету продолжалось двадцать лет. Преемник его, новый ректор Казанского университета, И.М. Симонов, при своем назначении на эту должность тотчас же получил оклад в тысячу рублей сверх жалованья профессора. «Дальше нечего рассказывать…» Лобачевский же получил назначение помощника попечителя учебного округа, которое так же его утешило, как Пушкина несвоевременное назначение камер-юнкером. Впрочем, очень может быть, что министерство имело в виду только его повысить.
Прусское правительство со спокойной совестью предлагало высокий административный пост Гауссу, с которым научные занятия были несовместимы, а потомки содрогаются при одной мысли, как жестоко пострадала бы от этого наука.
Деятельность Лобачевского в последнее десятилетие его жизни отличалась известными нам достоинствами, но по своей интенсивности она представляла только тень прошлого.
И в должности помощника попечителя учебного округа Лобачевский также не был формалистом. И когда приходилось давать выговоры, то старался делать их в простой и необидной форме. Г. Вагнер, в то время только что окончивший курс, состоял учителем дворянского нижегородского института. Директор этого заведения прислал какую-то жалобу Лобачевскому на Вагнера. Лобачевский пригласил молодого человека к себе обедать, увел его потом в кабинет и спокойным, ровным голосом сказал: «Конечно, вы только начинаете службу и вместе с тем вашу педагогическую деятельность и не можете судить о тяжести той ответственности, которую взяли на себя. Я уверен, что вы загладите свою ошибку». Совершенно иначе отнесся к той же, оказавшейся несправедливой жалобе попечитель: он встретил Вагнера грозным выговором, и когда тот начал оправдываться, то закричал на него по-казацки.