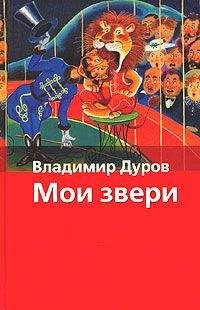Рукопись обошла в течение ближайших двух лет ряд московских рецензентов и была признана не вполне понятной. Только два ученых почтили меня своим вниманием: профессор Н. К. Кольцов дал благоприятный отзыв и академик П. П. Лазарев, прочтя ее, написал короткую, но блестящую рецензию в Госиздат, адресовав ее непосредственно Отто Юльевичу Шмидту, заведывающему государственным издательством. Одновременно я представил две рецензии Ю. В. Вульфа и А. О. Бачинского. Отто Юльевич пригласил меня к себе и, показав рецензию П. П. Лазарева и Н. К. Кольцова, сказал:
— Петр Петрович очень талантливый, но увлекающийся человек, поэтому к его заключению мы относимся осторожно. Еще более осторожно мы относимся к заключению профессора Кольцова. Правда, в вашей работе ничего виталистического нет, вы применили теорию электронов и математику к биологическим явлениям, но, может быть, биологические явления и особенно такие сложные, как патология, нельзя еще объяснить состоянием электронов в живых молекулах. Про наследственность и говорить нечего. Там все ясно… Я очень сожалею, но печатать ваш труд преждевременно, несмотря на все эти четыре отзыва.
Он проводил меня до дверей своего кабинета, крепко пожал руку и на прощание тепло и искренне сказал:
— Мне лично ваши исследования весьма понравились еще и потому, что вы смело применяете математику и физику к биологическим процессам. Вы затронули девственную область науки, но поработайте в ней еще несколько лет — в вашем труде есть нечто такое, что не вполне ясно. Госиздат, к сожалению, сейчас не может взяться за публикацию вашего дискуссионного труда по уважительным причинам… Не сердитесь, прошу вас, на меня. Я огорчен, что не могу быть вам полезным, как заведующий Госиздатом.
Я был удивлен тону речи этого молодого бородача, имя которого уже часто встречалось в прессе. Он был искренен, но печатать отказался, и я должен был смириться с этим фактом.
Я увез рукопись и, перелистывая ее в тот же вечер, никак не мог понять, в чем дело, отчего мне было отказано в ее публикации.
Петр Петрович Лазарев, узнав о безнадежности моих попыток издать книгу, меня утешил:
— Ничего, ничего, Александр Леонидович, все изменится, хотя приходится долго ждать. Мне с моей ионной теорией возбуждения повезло.
В течение ряда лет я дополнял книгу, любовно обрабатывая отдельные главы, надеясь все–таки с прогрессом науки опубликовать ее, ибо с каждым годом ее смысл становился все понятнее и понятнее в связи с успехами физики и физической химии.
Должен признаться: я очень дорожил этой работой. Она с каждым годом становилась увлекательней. Возможно, что некоторые главы можно было бы опубликовать в периодических изданиях, но я этого делать не хотел. Любая из глав была доходчива и звучала, как музыкальный инструмент звучит в оркестре, именно во всей книге, а не соло. Я оберегал созданное мною от саморазжижения и саморасхищения, надеясь издать когда–либо книгу целиком. Я предвкушал острое чувство авторства именно такой книги, где, по сути дела, все тогда было ново. Применение теории электронов к наиболее интимным процессам в организме открывало, как мне тогда казалось и что в действительности оправдалось спустя 30–40 лет, перспективы не только в теоретических науках о жизни, но и в практической медицине, тем более что один из способов влияния на эти тонкие и глубокие процессы также был уже мною установлен. Аэроионы оправдывали мои надежды все больше и больше. В них я уже видел то «электрическое» средство, которое должно будет «лечить» органические молекулы от «электронной недостаточности». Как ни наивно было это утверждение, однако в наши дни оно оправдывается. Аэроионы стали могущественным лечебным средством при многочисленных заболеваниях, применимость истинных аэроионов с каждым годом расширяется все более и более. Тогда мне казалось, что я напал на панацею древних… Я гордился этой работой и очень любил каждую ее страницу. Так было до 1942 года, когда мой двадцатилетний труд, объемом около 40 печатных листов, погиб вместе с другими моими рукописями в количестве ста папок научных материалов.
Сожалел ли я об этом? И да, и нет. В это время гибли миллионы человеческих жизней. Я — выжил, мой труд — исчез. Пусть будет так… Случайно сохранившееся письмо А. В. Луначарского напоминает мне о моих многолетних погибших усилиях. Утратить навсегда рукопись любимого труда — это, может быть, в какой–то мере равносильно утрате любимого ребенка. Но человек должен привыкать к таким потерям и стоически переносить свои горести.
Такова вкратце история моих исканий, неудач и катастроф, постигших меня на пути к новым научным концепциям. Но кому и какое дело до всех этих научных и жизненных перипетий и есть ли смысл в моем рассказе о настойчивых многолетних работах и утрате рукописи, которой я отдал лучшие годы моей жизни? За это время погиб не только мой труд, но и ушли из жизни люди, знакомые с ним. Умер Константин Эдуардович Циолковский, первый читатель и критик, умерли Н. К. Кольцов и П. П. Лазарев, Ю. В. Вульф и А. О. Бачинский, давшие моему труду столь лестную оценку, еще раньше умер мой отец, приложивший множество усилий, чтобы я в указанные периоды жизни мог спокойно работать… И глядя на письмо Анатолия Васильевича Луначарского, я могу лишь вспомнить невероятные трудности и отчаянное невезение, которые систематически постигают меня.
Мне поистине не везло. Невольно вспоминается знаменитая повесть М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», первая часть которой начинается следующими словами:
«Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми заметками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел».
Михаил Юрьевич не жалеет о своих пропавших записках. Его слова, запомнившиеся с детских лет, всегда служили мне источником утешения при жизненных невзгодах. Утраты в жизни не исключение, а правило, и к ним со временем следовало бы привыкнуть. Да вот нет же этой привычки. И каждый раз при утрате, горе некий огонь сжигает часть твоей души, но она, как феникс, возрождается снова и снова, чтобы опять быть сожженной. И сколько раз!
Как–то Константин Эдуардович Циолковский пришел к нам на очередной сеанс аэроионизации /пропустив, как всегда, дней двадцать/ и разразился такой филиппикой:
— Мои глаза видят так же зорко, как и шестьдесят лет назад, ум мой работает даже лучше, чем в те далекие времена, опыт мой стал таким большим, что я вижу то, чего не видят другие, но… голова моя седа, зубы выпадают, ноги и спина болят, мои пальцы дрожат, болят ноги, морщины бороздят лицо. Разве это не ужас? Разве это не преступление природы против человека? Я не устал, я хочу жить, а тело отказывается мне повиноваться. Значит, пресловутая медицина еще не наука — она не умеет лечить старость. Я знаю все трудности, стоящие перед медициной, и уверен, что преодолеть эти трудности можно, если учиться у природы, идти наравне с физикой, химией, математикой.