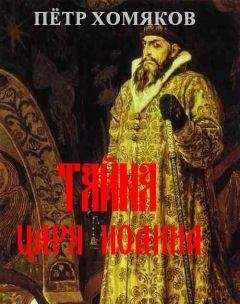Впрочем, патриотические стихотворения не остались совсем без следа, и 14 ноября 1831 года Пушкин зачислен был на службу в ведомство Государственной Коллегии иностранных дел с жалованьем 5 тысяч ассигнациями в виде особенной высочайшей милости. Вместе с тем ему был дозволен вход в Государственные архивы для собирания материалов к истории Петра Великого, чем он и не замедлил воспользоваться в ту же зиму, по переезде с дачи в Петербург. Из квартиры своей в Морской отправлялся он каждый день в различные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1831 года. 7 января следующего года он был принят в число членов Императорской Российской Академии и начал прилежно посещать заседания Академии по субботам. Плодом этих посещений были статьи его “Российская Академия” и “О мнении М.А. Лобанова”. Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся каждый день в архив, туда и обратно пешком; когда же чувствовал утомление, шел купаться, и этого средства было достаточно, чтобы снова возвратить ему бодрость и силы. В архивах Пушкин не ограничивался одним собиранием материалов к истории Петра; ему попалось случайно под руки несколько бумаг, относящихся к Пугачевскому бунту: он быстро увлекся изучением этого события и вскоре весь ушел в него. При такой непрерывной и страстной деятельности, к осени 1833 года у него были уже готовы материалы для “Истории Пугачевского бунта”, написана вчерне “Капитанская дочка”, и сверх этого были совсем отделаны “Русалка” и “Дубровский”.
Не ограничиваясь одними архивными изысканиями, Пушкин, как истый реалист, предпринял тогда уже то, что ныне, полстолетия спустя, ставят в особенную заслугу современным нам французским натуралистам как нечто новое, ими только что введенное: именно он захотел посетить все места, ознаменованные Пугачевским бунтом. И вот осенью в 1833 году он совершил поездку по Казанской, Симбирской, Пензенской и Оренбургской губерниям. Везде он, обозревая местности, в то же время искал живых преданий и свидетельств очевидцев. Так, в Казани он провел с этою целью полтора часа у некоего старожила, купца Крупенина; в Оренбургской губернии разговаривал со стариком Дмитрием Пьяновым, сыном того Пьянова, о котором упоминается в “Истории Пугачевского бунта”, а в селении Берды встретил старую казачку, помнившую происшествия того времени очень живо. Он пишет, что чуть не влюбился в нее, несмотря на малопривлекательную наружность. В Уральске Пушкин был принят с большим радушием всем обществом города, соединившимся в обеде, данном в честь поэта.
Истратив на все это путешествие месяц, Пушкин возвратился в Болдино 2 октября, до конца ноября пробыл в деревне, после чего возвратился в Петербург на службу. В этот промежуток времени были им закончены “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Песни западных славян”, которые он писал между делом, в течение 1832 и 1833 годов, “Медный всадник” и “История Пугачевского бунта”.
По прибытии в Петербург Пушкин представил в декабре 1833 года на рассмотрение начальства свою “Историю Пугачевского бунта” и получил дозволение на издание ее; сверх того, в виде награды, он был пожалован в камер-юнкеры, а на напечатание книги дано ему было заимообразно 20 тысяч руб. ассигнациями с правом избрать одну из казенных типографий.
По-видимому, Пушкин был наверху милостей, почестей и славы; со стороны могло казаться, что жизнь улыбается ему как нельзя более. А на самом деле он был глубоко несчастный человек, и тысячи острых пил со всех сторон подтачивали его существование. Начать с того, что положение Пушкина было крайне двусмысленно. С одной стороны казалось, что это было поднятие в высшие сферы общества, весьма льстившее тщеславию поэта; но в то же время это внешнее возвышение соединялось с целым рядом нравственных унижений всякого рода. Пушкин не мог войти в высшие сферы человеком, равным людям, находившимся в них, ни по своему состоянию, ни по родовитости, что неотразимо развивало в нем болезненную мнительность, при которой каждый неотплаченный визит, малейший признак небрежности в отношениях к нему и к его дому раздувались в его воображении в умышленное пренебрежение к нему, в желание доказать ему, что он сидит не в своих санях. В то же время это новое положение, при всей его кажущейся высоте, носило характер своего рода заточения, так как оно было обязательно: Пушкин не мог самовольно выйти из него, видя его ненормальность, не мог даже жить, где ему вздумалось бы; когда же он просился в отставку, ему или отказывали, или грозили опалою, лишениями – вроде запрещения посещать архивы.
Особенно положение Пушкина при дворе сделалось тягостно, когда ему пожаловали камер-юнкерство. Это придворное звание было уже не по летам Пушкина, и положение его невольно было комично, когда ему приходилось на выходах стоять среди безбородых юношей. Этим и объясняются исполненные горечи слова его дневника от 1 января 1834 года:
“Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. – Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным; а по мне хоть в камер-пажи, только бы не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике”. Отсюда же вытекает и ответ его великому князю, который поздравил его в театре с назначением: “Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили”.
Самое исполнение придворных этикетов в камер-юнкерском мундире крайне тяготило Пушкина своею формальностью, соединенной с выговорами и замечаниями чисто школьнического характера. “Третьего дня, – писал он своей жене, – возвратился я из Царского в 5 часов вечера, нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел им это объявить. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймерсом – ни за какие благополучия! Taite mieux avoir le fouet devant tout le monde,[12] как говорит mr. Jourdain”
В то же время обязательная придворная жизнь, навязанная Пушкину, соединенная с выходами, приемами, нарядами жены, требовала таких расходов, которые были совершенно не по средствам Пушкина, остававшегося при своем высоком положении все тем же помещиком средней руки, да еще помещиком с крайне расстроенным состоянием. Все имения родных его к этому времени успели прийти в полный упадок. Мы уже заметили выше, что управляющий, честный немец, посланный в Болдино, убежал оттуда в ужасе. Тщетно умолял Пушкин своих родных поселиться года на два, на три в Михайловском. Сергей Львович пришел в ужас и неистовство от перспективы закабаления в деревенскую глушь. “Вы не можете вообразить, – пишет Пушкин к Осиповой 29 июня 1835 года, – как тяготит меня управление этим имением (Болдином). Нет никакого сомнения, что спасти Болдино необходимо, хотя бы только для Ольги и Льва, которым в будущем предстоит нищенство или, по крайней мере, бедность. Но я и сам не богат, я имею собственное семейство, которое зависит от меня и которое без меня впадет в крайность. Я взял имение, которое, кроме хлопот и неприятностей, ничего мне не приносит. Родители мои и не знают, что они шагах в двух от разорения; если бы они могли решиться пробыть несколько лет в Михайловском, дела могли бы поправиться; но этого никогда не будет.