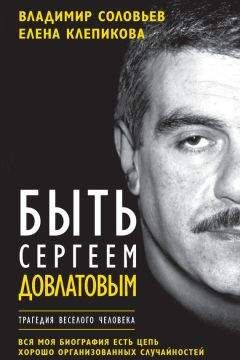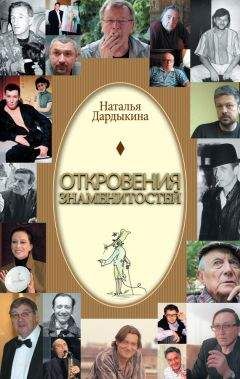— Вы хотите мне прочесть лекцию о вреде алкоголизма? Кто начал пить, тот будет пить.
Ему была близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать, — его собственное сравнение из неопубликованного письма. Увы, в отличие от неандертальских бардов, Довлатову до конца своих дней пришлось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный, и его рассказы, публикуемые в «Нью-Йоркере» и издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода. Кстати, гонорар от «Нью-Йоркера» — три тысячи долларов (по-разному, поправляет меня Лена Довлатова) — он делил пополам с переводчицей Аней Фридман. Таков был уговор — Аня переводила бесплатно, на свой страх и риск.
Сережа, конечно, лукавил, называя себя литературным середнячком. Не стоит принимать его слова на веру. Скромность паче гордости. На самом деле знал себе цену. В этом тайна Довлатова. Однако его самооценка все же ближе к истине и к будущему месту в литературе, чем нынешний китчевый образ. Увы, нам свойственно недо— либо, наоборот, переоценивать своих современников. На долю Довлатова выпало и то, и другое. Ну да, лицом к лицу лица не увидать.
Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу — не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.
Я написал трагически много — под стать моему весу. На ощупь — больше Гоголя. У меня есть эпопея с красивым названием «Один на ринге». Вещь килограмма на полтора. 18 листов! Семь повестей и около ста рассказов. О качестве не скажу, вид — фундаментальный. Это я к тому, что не бездельник и не денди.
Из уничтоженных писем Сергея Довлатова
Так писал Довлатов еще в Советском Союзе, где его литературная судьба не сложилась, где его не признавал благонамеренный официоз и третировали писатели «самых честных правил», для которых он был никто. Вот из другого его письма Юнне Мориц — опять-таки уничтоженного ею.
Я убедился с горечью, что вы не потерпите моих скромных литературных дерзаний. А турнир приматов не для меня. Я не стану подвергать вас дальнейшему чтению. Найду себе других читателей — военнослужащих, баскетболистов… Я не дуюсь. В сущности, рассказы к ним и обращены. И реальны лишь те мерки, на которые эти сочинения претендуют. Шило — страшное оружие, но идти с ним на войну глупо.
Из уничтоженных писем Сергея Довлатова
С тех пор он сочинил, наверное, еще столько же, если не больше, а та «сущая ерунда», на которую претендовал, так и осталась мечтой.
«Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь Его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. У Бога добавки не просят».
Он мечтал заработать кучу денег либо получить какую-нибудь престижную денежную премию и расплеваться с радио «Свобода»:
— Лежу иногда и мечтаю. Звонят мне из редакции, предлагают тему, а я этак вежливо: «Иди-ка ты, Юра, на х**!»
Юра — это Юра Гендлер, заведующий русской службой нью-йоркского отделения «Свободы», наш, фрилансеров, общий работодатель и благодетель.
Хоть Сережа и был на радио нештатным сотрудником и наловчился сочинять скрипты по нескольку в день, халтура отнимала у него все время, высасывала жизненные и литературные соки — ни на что больше не оставалось. Год за годом он получал отказы от фонда Гуггенхайма. Особенно удивился, когда ему пришел очередной отказ, а Аня Фридман, его переводчица, премию получила. В неудачах с грантами винил своих спонсоров — что недостаточно расхвалили. В том числе — Бродского, другой протеже которого — Юз Алешковский, объявленный им «Моцартом русского языка», — Гуггенхайма хапнул. В отместку или просто из злоречия Сережа рассказывал, что с ужасом наблюдал в супермаркете напротив своего дома, как Юз преспокойно кладет за пазуху огромный кус мяса — в качестве приношения к довлатовскому столу. Так или не так — за что купил, за то продаю. В «Записных книжках» Довлатов заменил мясо на колбасу, а ворюгу назвал «знакомым писателем». А с Юза станет, у него сознание уголовника, как был урка, так и остался, мне ли не знать. Да и в тюрягу он попал не за политику, а за угон машины — не в укор ему будет сказано. Одно время мы с Юзом тесно сошлись — в Коктебеле, где я ему сосватал его будущую жену, а он, прочтя в рукописи «Трех евреев», посоветовал мне, нарушив сюжетную и хронологическую канву, перемешать главы, что я и сделал — спасибо, Юз! В Москве мы приятельствовали уже по инерции, я был дружком невесты на его свадьбе, а в Малеевке разругались на бытовой почве — из-за его сына Алеши, который температурил, и я настоял, чтобы он увез его в Москву. Может, я был неправ, не знаю.
Нельзя сказать, что Бродский Сереже не помогал. Напротив. Рекомендовал его на международные писательские конференции в Вене и Лиссабоне, где нарисовал его портрет, на котором Сережа перерисовал себе нос, несмотря на пиетет перед гением, и где Довлатов не выдержал напряга и нырнул в стакан, а потом гордо рассказывал, что к трапу его волокли два нобелевских лауреата — Чеслав Милош и Иосиф Бродский. Свел его с переводчицей и с литературным агентом. А главное — снес его рассказы в «Нью-Йоркер», а когда этот самый престижный литературный журнал в Америке стал регулярно Довлатова печатать, Бродский будто бы запаниковал, я уже писал об этом, но вот точная Сережина реплика, вспомнил. «Пригрел змею на груди, — хихикая, прикалывался Довлатов. — А теперь завидует мне — знал бы, ни за что не порекомендовал!» — шепотом сообщил мне Сережа, словно боясь, что гений его услышит. Слегка переигрывал.
Одна наша общая знакомая даже жаловалась, что, если бы Бродский помог ей, она бы стала Довлатовым, а так была и осталась никому не ведомой Людой Штерн — таланты равны, а Бродский почему-то решил ввести в литературу не ее, а Сережу: снес его рассказы в «Нью-Йоркер», брал с собой на литературные конференции. В том смысле, что у нее слова — и у Сережи слова. А разница между большим талантом и усредненным графоманством — кто ее усечет? Боря Парамонов, с деревянным ухом на литературу, что нисколько не умаляет его литературной одаренности, тот просто говорил мне, что не дает ему покоя покойник. Даже Лену Довлатову не обошел своим завидущим вниманием: «Хорошо устроилась — избавилась от мужа-алкаша, а теперь стрижет купоны с его славы». Или «живет на ренту с его славы». Не помню точно, как именно он выразился.