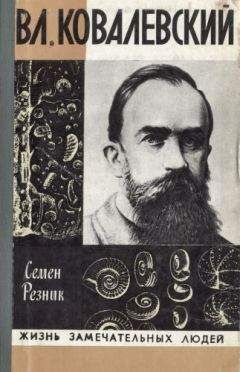Большинство его драматических произведений относятся к тому же времени.
С 1784-го по 1790 год он написал массу произведений.[5]
Не все, к счастью, было напечатано.
У него было два рода работ: одни, которые он охотно показывал, были только скучны и не представляли ничего нескромного, и другие, которые он тщательно скрывал и на которые возлагал наибольшие надежды.
В 1787 году маркиз послал рукопись одного из своих произведений «Генриетта и Сен-Клэр» своей жене; она, конечно, была более способна преувеличенно расхваливать, чем подать полезный совет, но ему это и было нужно.
Счастливая этим знаком доверия, она тотчас же отвечала ему:
«Я прочла „Генриетту“… Я нахожу ее глубокой и способной произвести огромное впечатление на тех, у кого есть душа. Она не взволнует малодушных, которые не в состоянии понять положение героев. Она совершенно не похожа на „Отца семейства“ (комедия в 5 действиях, игранная во Французском театре в 1761 году) и не может быть сочтена заимствованной. В общем, в ней много очень хорошего. Вот мой взгляд после беглого прочтения. Я перечитаю ее не один раз, потому что я до безумия люблю все, что исходит от тебя, хотя слишком люблю, чтобы судить строго».
Он написал другую пьесу, о которой мы еще будем иметь случай говорить, пьесу патриотическую — «Жанна Ленэ, или Осада Бовэ» и решил прочитать ее офицерам…
Заставить своих тюремщиков прослушать трагедию было со стороны заключенного, надо согласиться, своеобразным мщением.
Непривычная для него работа постепенно отразилась на его глазах — его часто пользовал окулист Гранжен, но не мешала ему день ото дня все более и более тяготиться заключением в Бастилии.
Он считал за это ответственной свою жену.
Он был так груб с нею, что свидания были запрещены.
Заключение в конце концов повлияло на мозг маркиза де Сада.
Постоянное возбуждение, в котором он находился, вело его к сумасшествию.
Началось это еще в Венсене и продолжалось в Бастилии: он стал со страстью маньяка предаваться мистическим вычислениям и комбинациям.
Он читал, так сказать, по складам, все письма, которые ему присылали, и в количестве слов и слогов искал — и думал, что находит, — тайну своего будущего, надежду и указание на свое освобождение.
Каждое такое письмо носило отметки, сделанные его тонким и острым почерком, отметки непонятные, но относившиеся к освобождению, которое стало его «пунктиком».
Так, под заключительной фразой письма его сына от 20 декабря 1778 года: «Позвольте, милый папа, моей няне засвидетельствовать вам свое почтение», — он написал, после того как счел число слогов: «22 слога и есть 22 недели до 30 мая».
30 мая 1779 года его должны были, по его мнению, освободить.
Он ждал, продолжая вычислять.
Время между тем шло.
Собрание Генеральных штатов нанесло первый удар старому режиму, пробудило энтузиазм, воскресило озлобление.
Вокруг Бастилии, окруженной пятивековой ненавистью, загорелось восстание.
Из газет и журналов, от нескромно болтливых тюремщиков узникам было известно все, что происходит.
Ожидание несомненной свободы в недалеком будущем делало их неспособными сдерживаться в эти последние часы их заключения.
Они сгорали от нетерпения и вышли из повиновения тюремщикам.
Это возбуждение зашло так далеко, приняло такие размеры, что г. де Лонай счел своим долгом запретить заключенным прогулки по площадкам, откуда они могли своими криками и жестикуляцией волновать народ.
Ни один из заключенных, не особенно многочисленных в 1789 году, не был так возмущен принятой мерой, как маркиз де Сад.
Как только было сделано это распоряжение, он выскочил из своей камеры и пытался — впрочем, тщетно — отстранить караульных, которые охраняли вход на башни.
Его увели в камеру только после того, как приставили заряженные ружья к груди.
Несколько дней спустя, 2 июля, взбешенный отказом, полученным снова от коменданта, он вздумал воспользоваться жестяной трубой, которую ему дали для выливания в ров из камеры жидких отбросов.
Вооружившись этим инструментом, он начал кричать в окно своей камеры, которое выходило на улицу Св. Антония, что узников Бастилии режут и надо освободить их.
Собралась толпа, привлеченная этим диким криком, и г. де Лонай, хорошо понимая, как были возбуждены умы, серьезно обеспокоился…
…Победители Бастилии были крайне удивлены, найдя там так мало узников.
Народ, который любит чувствовать себя растроганным, предполагал, что в этих казематах заперто множество людей, закованных в железные цепи, осужденных на ужасные мучения.
Что этих предполагаемых жертв оказалось ничтожное число — оскорбило и расстроило. Девять обывателей округа Св. Людовика на Иле, во главе которых был некто г. Ламар, решили выяснить дело.
Они явились в комитет округа и высказали свои сомнения.
Они были почти уверены, что несчастные остались заключенными в Бастилии в забытых казематах, которые известны только тюремщикам. С каким нетерпением, с какой смертельной тоской ждут они, вероятно, своего освобождения! Необходимо спешить, не теряя ни минуты, иначе они умрут с голоду и отчаяния…
Так говорила делегация из девяти граждан, приведенных Ламаром.
Комитет послал одного из своих членов вместе с несколькими чиновниками округа осмотреть все камеры и казематы.
Не нашли ничего.
Для большей уверенности они потребовали четырех тюремщиков Бастилии: Трекура, Лоссинота, Гюйона и Фанфара, которые и явились 17 июля в 11 часов утра.
Допрошенные отдельно, они, поклявшись говорить правду, дали точные разъяснения относительно башен, камер, казематов и узников, которые были в них заключены.
Лоссинот, которого допрашивали о двух башнях, где он был сторожем, ответил, между прочим, что последний из заключенных в башне Свободы был маркиз де Сад, недели три назад переведенный в дом братьев милосердия Шарантон, что после его перевода были наложены комиссаром Шеноном печати на дверь его камеры для сохранения различных вещей, которые были там оставлены.
В то время, когда косвенно упоминалось о маркизе де Саде, он находился в Шарантоне, где ему и было, собственно говоря, настоящее место.
Невзирая на обширные помещения, большой сад и прекрасный вид, удостоверенный всеми путеводителями по Парижу, маркиз де Сад не оценил достоинств своей новой резиденции, в которой и режим и дисциплина были гораздо легче, нежели в Бастилии.
Маркиз де Сад на первых порах казался довольным своим пребыванием в этом доме сумасшедших, быть может, потому, что надеялся пробыть здесь недолго.
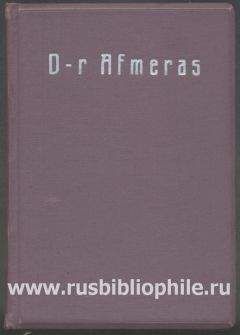
![Deathwisher - [психо]toxic](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)