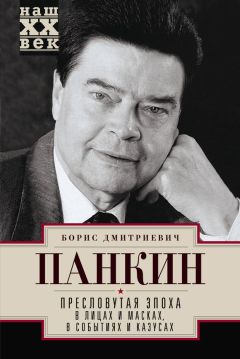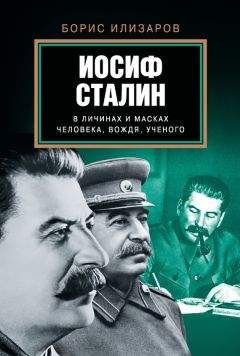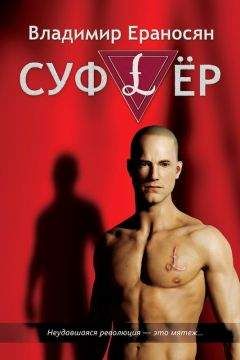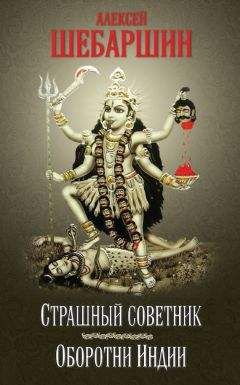Там автора статьи спросили: «Вы со статистикой положения в политсети знакомились?»
– Я делился собственными впечатлениями.
– Значит, положение дел знаете понаслышке…
Приглашенный на заседание редактор областной партийной газеты спросил своего молодого коллегу, Колю Панченко, к тому же еще и начинающего поэта, почему, мол, такие-то и такие-то места «пропустили»?
– Так дискуссия же… Тот пожал плечами:
– Мы все вычеркиваем, с чем не согласны…
– А что тут неправильного, – высунулся Жаров, стажировавшийся на роль ответственного секретаря.
– Вам еще рано выступать, – сказали ему. – Как бы на этом выступлении не закончилась ваша стажировка.
Потом какая-то дама выясняла:
– Кто это был такой, которому мы на язык наступили? «Молодежку» обязали опубликовать на ту же тему статью секретаря Калужского горкома. Когда она появилась, сказали:
– Вот и печатайте теперь на нее отклики.
– Да нету откликов-то…
– А вы организуйте, что мы, не знаем, как у вас это делается?
… – Вот и оказались мы с этим клубом, – с мрачным юмором заметил Окуджава, – в прямом и переносном смысле в противоестественном положении. Зачать зачали, а родить не дают.
Материал просто плыл мне в руки. На бюрократов и перестраховщиков у меня еще с университетских лет была идиосинкразия. Я, не выходя из редакции, исписал пару блокнотов. Условились, что, если что, мне позвонят, и я сразу же объявлюсь. Позвонил сам редактор, видно, допекло, начинающий поэт Коля Панченко, ушедший позднее в диссиденты!
– Увы, экскурсия в Москву только усугубила ситуацию. В ход пошла тяжелая артиллерия – парторганы. Приезжай.
Приехал. Начал «входить в матерьял».
Все, что было связано с клубом, в партийных и комсомольских кабинетах читали с лупой в руках:
– «Все, кто молод душой, объединяйтесь»? У нас в районе 18 тысяч несоюзной молодежи. Все молоды душой. Разве всех объединишь?
– «Смелее, острее, без оглядок…» Тут явная попытка уйти из-под контроля.
– «Бюро интернациональных связей». С иностранцами встречаться? А откуда иностранцы у нас в Калуге?
Когда я сам пошел по этим кабинетам, разговор был еще круче. Со мной, «товарищем из центра», разговаривали на родном партийном языке. Без обиняков.
Павлов, правда, поинтересовался:
– Вы, конечно же, член партии? – И, не дослушав ответа, моя везуха, понес: – В газете помещали всякий хлам. Да вы сопоставьте эту трепотню и весь этот визг с решениями ЦК ВЛКСМ… Инициативная группа, к которой примкнули не совсем советские люди, неряшливо подошла к вопросу. В уставе клуба, говорят, Окуджава привез его из московских салонов, упустили вопрос о руководстве комсомолом. В программе написали: диспуты по всем вопросам?! Вы же понимаете, надеюсь… Стали декларировать отмену политзанятий, заменили их танцульками… И всего этого комсомольские секретари не заметили. Слишком много взяли на себя. С бюро, с пленумом не посоветовались…
Сейчас вся подноготная той истории видится мне куда яснее, чем тогда. XX съезд и доклад Хрущева еще впереди. Но в стране уже все бурлило. И самые мощные импульсы политической лихорадки исходили, как это случится еще не раз и в будущем, из твердыни режима, со Старой площади, из кабинета первого человека в партии, а соответственно, и в стране.
«Оттепель», крылатое слово, брошенное Эренбургом, растапливала льды, но на смену ей снова и снова приходили заморозки. Вот и тут, в Калуге, областные деды морозы, которые в схватках Хрущева с Молотовым и Кагановичем явно держали сторону последних, пальнули и по страницам «Молодежки», и по комсомольским областным и городским вождям, которые сначала спасовали перед вольнодумцами, а теперь, оказавшись между двух огней, «ударили жидким», по выражению еще одного словотворца «Комсомолки» Володи Онищенко…
– Значит, я так понял, – торопливо заносил я в свой блокнот (просто слюнки текли!) словесные перлы будущих персонажей своего опуса, – клуб никто не распускал. Поскольку юридически он не был создан, он не мог быть и закрытым.
– Вот-вот. Говорят, разогнали клуб. А мы просто поправили его устроителей.
Все это многоголосье, упиваясь лексикой как сторонников, так и противников «Факела», я вложил в девять машинописных страниц. Высунув от удовольствия язык, строчил: «Трусость в нашем представлении неразлучна с робостью во взоре, с краской испуга на лице, а здесь – высокомерный окрик, постукивание стопкой карандашиков по столу, оргвыводы. У такой трусости есть более точное название – перестраховка. И плодятся перестраховщики там, где не внимают голосу масс, а откликаются только на начальственный басок».
Статья появилась на свет как раз накануне очередного пленума ЦК ВЛКСМ. На нем «Комсомолку», то есть центральный орган комсомола, обвинили в том самом, что в Калуге шили многострадальному, так и неоткрывшемуся «Факелу» «Молодого ленинца»: противопоставление комсомола партии: «несоюзной молодежи» – комсомолу.
Мне на пленуме присутствовать было не по чину. Меня таскали по кабинетам. Семичастный, тогда второй человек в комсомоле, допрашивал, правда ли, что на редакционных летучках я критиковал Шелепина.
Я являлся на все эти вызовы, внимательно выслушивал назидания, говорил что-то в ответ, но чувства реальной опасности не появлялось ни разу.
Как же отбивался и отбился Горюнов, не знаю. Но когда на подпись ему положили проект очередного приказа о премиях за истекший месяц, где на первом месте красовался мой «Факел» (300 рублей в так называемых старых рублях при тогда шней зарплате литсотрудника в 1200 рублей), он, по свидетельству той же его помощницы Любы Антроповой, подписал приказ «не моргнув глазом».
Короткая комсомольская карьера Булата Окуджавы, о которой мало кто и помнит, на этом завершилась. Он разочаровался в своей идее хождения в народ, то бишь в плотные слои комсомолии, осел на время в «Литературке» и посвятил себя стихам и песням, со всеми вытекавшими из этого последствиями.
Но эта главка – не об Окуджаве, который еще появится на страницах этой книги. Она – о Д. П. О моем первом главном редакторе.
…С переходом его в «Правду», а потом в ТАСС в наших отношениях мало что изменилось: «Вы наши отцы, мы – ваши дети».
Называть его Д. П. или Дима я позволял себе только заочно.
– Вы какую газету там с Юрой делаете? – спросил он меня однажды грозно по телефону. А Аджубей только что ушел в «Известия», а Воронов еще не набрал оборотов.
– Так не я же главный, – смалодушествовал я.
– А кто ты? Заместитель? Вот и замещай! Тебя ж только назначили. У тебя знаешь, какой запас прочности.
Несколько лет спустя, застав у меня, уже в кабинете главного, тогдашнего моего зама, присланного на амплуа политкомиссара, поинтересовался его фамилией: