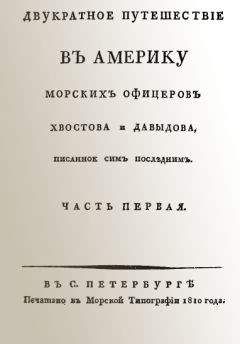По возвращении в Дюссельдорф Шуман принялся снова за свое обычное дело – композицию. Образ его жизни не выходил из заведенного порядка: его занятия чередовались с обязательными прогулками, которые он совершал ежедневно в 12 часов в обществе жены или близкого друга. Направляясь к берегу Рейна, Шуман любовался красотою реки и особенно радовался появлению весны: первая зелень и пение птиц приводили его в восторг. Прогулки оживлялись иногда интересными беседами, но случалось, что Шуман погружался в музыкальные идеи, шел опустив голову и лишь по временам взмахивал в такт рукой, – тогда весь путь совершался в глубоком молчании и только при прощании спутники говорили друг другу «до свиданья».
Между тем предвестники таившегося в Шумане недуга, пугавшие окружающих его, начали появляться все чаще и стали принимать угрожающие размеры. Глубокая апатия, охватившая душу Шумана, отразилась и во внешнем его облике, принявшем вид утомления и угнетенности. Меры, предписываемые врачами, приносили лишь временное облегчение; путешествия, купанья ненадолго укрепляли его силы; организм, надломленный чрезмерным напряжением творчества, все более поддавался болезни, которая постепенно овладевала всем существом великого композитора и окутывала мраком его некогда сильный и ясный дух. Больному слышалась постоянно звучавшая нота la, мешавшая ему даже читать; ночью он вскакивал с постели, уверяя, что ему явились Шуберт и Мендельсон и дали мелодию, которую он спешил записать. На эту тему он впоследствии сочинил несколько вариаций – свою лебединую песнь. В светлые минуты Шуман носился с планами различных изданий и между прочим мечтал издать собрание своих литературных трудов, но болезнь помешала ему привести в исполнение этот замысел.
Его нервное расстройство усиливалось занятием спиритизмом, которому он предавался с глубокой верой и страстным увлечением. Однажды Шумана пришел навестить Василевский и застал его лежащим на кушетке с книгой в руках. На вопрос посетителя, что это за книга, Шуман ответил возвышенным, торжественным тоном: «О! вы еще ничего не знаете о столоверчении?» Василевский принял эти слова за шутку и ответил с усмешкой: «Как же!» Вдруг обыкновенно полузакрытые, глядевшие внутрь себя глаза Шумана широко раскрылись, зрачок судорожно расширился и с необыкновенно таинственным выражением он произнес медленно и зловеще: «Столы знают все». Увидав эту угрожающую серьезность, Василевский согласился с его мнением, чтобы не раздражать его, после чего больной успокоился, затем позвал свою вторую дочь и стал производить с ней опыты над маленьким столиком, заставляя его отмечать начальный ритм одной из бетховенских симфоний. Вся сцена страшно напугала Василевского, и он тотчас же высказал свои опасения знакомым. Сам Шуман пишет друзьям о своих спиритических сеансах: «Вчера мы в первый раз вертели столы! Необыкновенная сила! Представь себе, я спросил его, какой ритм второго такта симфонии C-moll. Он поколебался с ответом дольше обыкновенного и наконец начал, но несколько медленнее. Когда я ему сказал: ведь темп быстрее, милый стол, – он поспешил ударить настоящий. Я спросил его тоже, может ли он мне дать число, которое мною задумано; но ударил верно – три. Мы были как будто окутаны чудесами».
Любовь Шумана ко всему таинственному, сверхъестественному, принявшая под конец характер некоторого мистицизма, проявлялась у него уже раньше; будучи еще молодым человеком, он, например, увлекался изобретением Порциуса – психометром, машиной, измеряющей душу, то есть указывающей посредством магнита на различные свойства характера. Уже с детства Шуман отличался крайней впечатлительностью и был склонен к меланхолии; с годами это увеличилось, и чрезмерная работа помогала разрушительному действию унаследованного недуга. Болезнь развивалась постепенно; бывали времена, когда Шуман чувствовал себя настолько лучше, что совершал небольшие путешествия и принимал участие в концертах; тем не менее в письмах он жалуется на упадок сил, на утомление и недомогание. Однажды он находился с Кларой на званом вечере. После ужина Клара села играть, а Шуман, по обыкновению, уединился в соседней комнате. Клара, которая всегда очень о нем беспокоилась, пошла к нему по окончании игры. Когда она вошла, Шуман вскочил, как будто очнувшись от оцепенения, и спросил: «Кто это играл?» «Это я играла, Роберт», – ответила Клара дрожащим голосом. «А, так это ты!» – сказал Шуман равнодушно и погрузился снова в раздумье. Эти странные слова так огорчили Клару, что она почувствовала себя дурно и пожелала уехать домой. Но Шуман возразил коротко: «Зачем же? Ведь здесь очень мило!» Один из друзей вмешался и заметил Шуману, что он не должен удерживать жену, если она нездорова; Шуман рассердился и на другой день написал своему знакомому письмо с выражениями неудовольствия по поводу его вмешательства.
Когда в конце июля 1853 года Шуман временно находился в Бонне, ему раз утром сделалось так дурно, что он немедленно лег в постель, вообразив, что поражен нервным ударом; доктор, немедленно прибывший, с трудом мог разубедить его в ошибочном предположении и уговорить встать. Шумана преследовал безотчетный страх, пугали страшные призраки, и Клара, ходившая за ним с полной самоотверженностью любящей жены, напрасно старалась его успокоить и рассеять мрачные видения: ей это удавалось лишь на несколько мгновений, после чего больная фантазия вновь принималась за свою работу.
Шуман стал воображать себя великим грешником, недостойным любви своих ближних, и терзался этим убеждением. В спокойные минуты он сознавал свое состояние и, вероятно, предчувствовал давно исход унаследованной болезни, унесшей в могилу его единственную сестру. Быть может, это сознание заставляло его работать с такой сокрушающей энергией, «творить, пока – день», пока не настала ночь для его светлого гения. Он часто повторял, что не может поправиться дома, изъявлял желание поселиться в больнице, приводил в порядок свои бумаги, прощался со всеми, посылал за каретой, но оставался дома, не будучи в состоянии оторваться от любимой семьи, в минуты же сильных припадков просил всех удалиться. Сознание своей болезни так тяжело его угнетало, что однажды вечером, воспользовавшись минутой, когда Клара, увлеченная разговором с друзьями, перестала следить пытливо за каждым его движением, он незаметно и молча вышел из комнаты. Друзья не обратили внимания на его исчезновение, в полной уверенности, что он скоро вернется. Но он не возвращался: Клара пошла посмотреть, где он, и к ужасу своему не нашла его дома. Кинулись искать на улицу и не нашли. Оказалось, что он, без пальто и без шляпы, побежал к Рейну и бросился с моста в воду, в надежде найти конец своим страданиям. К счастью, его вытащили из воды, прохожие узнали его и таким образом могли доставить на квартиру. Клару не допустили к нему, боясь слишком сильного действия на нее его ужасного вида, так как холодная ванна вызвала страшный припадок, после которого состояние Шумана требовало постоянного надзора. После этого случая пребывание его дома сделалось невозможным, и доктора признали необходимым поместить его в лечебницу. Получив согласие Клары, доктор Газенклевер, с помощью двух служителей, перевез Шумана 4 марта 1854 года в частную лечебницу доктора Рихарца в Энденихе, близ Бонна.