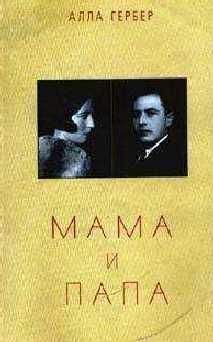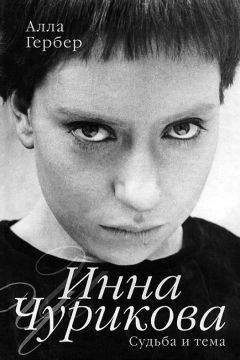"Твои друзья — мои друзья, наш дом — твой дом" (шестнадцать метров полезной жилой площади). С тех пор так оно и было: мои товарищи называли маму "мамой Фаней" и приходили к ней без меня, удивлялись, если ее почему-то не было на наших сборищах. И никому в голову не приходило сесть без нее за стол. Она сама незаметно исчезала, чтобы не мешать нам, но без мамы было хуже, и с годами, собираясь, мы категорически не отпускали ее.
С годами ее жизнь стала неотделима от моей. Она не убивалась, как некоторые матери, что вынуждена жить не своей жизнью, а дети все равно неблагодарны... Так случилось, что это и была ее жизнь, другой она для себя не хотела.
С того дня, как арестовали отца, она сумела стать моей ближайшей подругой и осталась ею навсегда. Но произошло это не сразу. В том возрасте, когда "нас не понимают", я не была исключением. Я тоже пыталась отделиться, самоопределиться, самоутвердиться... Я уже не была послушной девочкой, которой второй раз не надо повторять — хватало одного. Я могла быть резкой, вздорной, грубой. Говорить:
"Я хочу... я сказала... не мешай мне жить... довольно меня воспитывать... не вмешивайся в мои дела... сама знаю... сама разберусь... оставь меня в покое... мое время, мои друзья... я уже не маленькая... я взрослая..." Потерять дочь в таком обостренно-свободолюбивом, суверенно-отделенном состоянии очень просто. Сохранить, оставить с собой на добровольных началах — куда трудней.
В этот проклятый переходный возраст, который не разбирает, что хорошо, а что плохо, мы были с мамой на грани серьезных конфликтов, но она сумела сделать себя настолько необходимой мне и моим друзьям, что, когда ее не стало, я не знала, как жить. Она была всем в моей жизни, и вместе с ней ушло все. И это ВСЕ надо было реставрировать, восстанавливать... Но как?
Сначала я механически цеплялась за ее порядок, за то, чтобы все стояло, лежало, занимало те же места, что и при ней. Мне казалось, что она вот-вот вернется и спросит — где это, куда девалось то... Но она не приходила. И тогда я поняла, что надо учиться жить без нее, но и с ней. Я давно не ставлю кастрюли в мамином порядке, не складываю белье в маминой последовательности. Но я постоянно, как и раньше, общаюсь с ней, продолжаю наш с ней бесконечный разговор. Как и раньше, я спрашиваю ее совета в делах, прошу пожелать "ни пуха ни пера", когда "иду на грозу" или гроза идет на меня... И мне кажется, она слышит, она рядом. И как в детстве, когда болела, я чувствую на своей горячей руке ее мягкую, прохладную, и прижимаюсь к ней, и прошу:
"Помоги мне, мамочка, посиди со мной, не уходи, пожалуйста, мне больно, мамочка, мне страшно..."
* * *
И все-таки рано или поздно мы обязательно уходим.
Теперь, когда я все это пережила, как мать я могу понять, почему так потерянно-трагически смотрел на меня папа, когда я впервые при нем закурила. Он не стал на меня кричать и сигарету не вырвал... К тому времени, когда он вернулся, я закончила институт и была, в собственных глазах, самостоятельным человеком. Но для него — все той же девочкой-восьмиклассницей, которую он семь лет назад оставил в ночь с восьмого на девятое марта. И когда я закурила, ему, наверно, показалось, что он снова теряет меня. Он вернулся ко мне в мое отрочество, а перед ним стояла молодая женщина, которая, закуривая, не утверждала свое право делать, что ей вздумается, а привычно курила. В нашем юридическом институте все курили, и это успело стать дурной привычкой, но для папы это было прощание с той дочкой, с которой он играл "в магазин", и с той, с которой читал "Жили три друга-товарища в маленьком городе Н., были три друга-товарища взяты фашистами в плен...", и с той, с которой пел "Сильва, ты меня не любишь..." И был потрясен не тем, что курю (хотя терпеть не мог курящих и папиросы, которые мы посылали ему в лагерь, отдавал товарищам), а тем, что УХОЖУ. Что никогда уже не вернусь той, какой он меня знал, а вернусь другой, которую ему предстоит узнать. И неизвестно, КАКАЯ ОНА. И еще неизвестно, будут ли они друзьями, да и захочет ли теперь дочь дружить со своим отцом.
Я не привыкла смеяться над папой. Но эта его трагическая реакция — он на глазах постарел, сгорбился, стал ниже ростом, ничего не сказав, вышел из комнаты, — честно говоря, показалась мне смешной. Что-то тогда произошло между нами, какая-то невидимая трещинка появилась в наших всегда таких естественных отношениях. Чтобы не огорчать его, я больше никогда при нем не курила, но понять, что с ним в тот день произошло, смогла лишь много лет спустя, когда мой сын впервые закурил при мне. Вот именно это и произошло — расставание. Жуткая, разуму неподвластная тоска — мальчик уходит. Не догадка, а реальность того, что сын больше мне не принадлежит. Мне было жалко его неокрепших легких, но, признаюсь, больше всего мне было жаль, что он вырос, что наше (его) детство кончилось, что от него больше никогда не будет пахнуть творожком, а будет пахнуть разными чужими запахами, в которых с каждым годом мне все труднее будет уловить его собственный. И я, точно как папа, запомнила этот день трагического прощания с детством сына, со своим в нем незаменимым местом. Наступило другое время, и в нем мы тоже не разминулись, но оно было другое.
Удивительно, как наши дети повторяют наши истории, наши ошибки, а то и развивают, жестоко их обновляют.
Почему-то многие события в нашей семье связаны с Восьмым марта — и печальные и светлые. Весна несет обновление, а оно не всегда радостное, иногда лучше, чтобы не было никаких перемен.
Но в нашей семье инстинкт самосохранения всегда был притуплен, любовь к жизни делала неосмотрительными. Нас несло по жизни — в неведомое, в непредусмотренное, увлекал сам процесс. Вот так, именно в день Восьмого марта, мы отправились с моим будущим мужем, а пока — другом, поклонником, любимым человеком, назовите, как хотите — в кафе, где нам было головокружительно весело от музыки, весны и любви. Где показалось, что на свете есть только мы, а кому это хоть раз в жизни не казалось... Где мы валяли дурака от переизбытка чувств, молодости и сухого вина... Где мы задумались, загрустили, затихли, прижавшись друг к другу, когда маленький оркестр заиграл "Шагай вперед, мой караван...", а потом — "Затихает Москва, стали синими дали..." И когда мы опомнились, и вернулись в реальное, то Москва уже просыпалась и я поняла, что впервые нарушила данное родителям слово: где бы ни была — обязательно звонить. Важно было, не где я и что делаю. Важно было, как говорила мама, "дать о себе знать". А я не дала — ведь такая весна, и такой вечер, и столько манящих улиц в Москве... И, гуляя до рассвета по любимым нашим арбатским переулкам, я забыла о родителях, о том, что сходят, наверно, с ума, звонят сейчас в больницу Склифосовского: нет ли там их дочери — жертвы несчастного случая. Или обзванивают все отделения милиции — не стала ли я объектом преступления (естественно, не субъектом). Они могли предположить все самое страшное, но только не самое простое: что я ЗАБЫЛА позвонить. "Не дала о себе знать" — значит, что-то случилось. Тогда я могла сколько угодно над этим смеяться, но когда мой сын, где-то задерживаясь, не успевает или забывает позвонить, всякий раз, исключая его забывчивость и рассеянность, я думаю только об одном — что-то случилось.