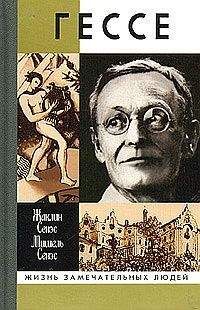Каждую неделю ученики посвящают занятиям сорок один час. Кроме того, существуют свободные часы, когда можно гулять, отдыхать, неторопливо читать и размышлять, — это часть выходных и праздничных дней, утренние часы, время после полудня и полчаса вечером, перед ужином. В нескольких письмах, следующих одно за другим, Герман лаконично сообщает: «У меня все хорошо… Мы все привыкаем друг к другу…» Постскриптумы этих писем даже легкомысленны: «Если бы мне возможно было получить сосиски или фрукты, они были бы встречены моим монашеским желудком с глубоким почтением», «у меня остается шестьдесят один пфенниг. Скоро я буду нуждаться… Поверьте мне, дорогие родители, я могу себе позволить лишь кружку пива за одиннадцать пфеннигов. Мы имеем право употреблять такие вещи три раза в неделю, и почти все этим пользуются. Можно пить молоко, но это очень дорого!» Вместе с двенадцатью мальчиками он живет в комнате, которую называют Хеллас: «Форум, Афины, Спарта, Акрополь и Германия — так зовутся другие помещения», — пишет он домой.
Приближается зима. Уже холодно. Стены коридора черны от сырости, как надгробные камни во дворе. Пар от приготовляемой пищи поднимается под своды маленькой кухни, отчего воздух становится сырым и теплым. Кушания передают через отделанные металлом окошечки. Готическая трапезная занимает поперечный неф. Принимать пищу можно только в специально отведенные для этого часы. Домашнее платье дозволяется лишь по пробуждении. В повседневной одежде ученикам предписывается избегать ярких расцветок и эксцентричных покроев. С красными от мороза ушами и обожженным ветром лицом Герман исследует окрестности: «Я хочу описать вам здешнюю округу. Я очарован озером здесь неподалеку. Представьте себе старый и красивый буковый лес. И среди вековых деревьев поразительное серебряное озеро, окруженное зарослями тростника у низких берегов. чуть подальше, за столетней ольхой, — скамеечка, поросшая мхом…»
Туман у берега терял густоту и рвался от сухого и теплого альпийского ветра фена, «когда он с воем проносился над ущельями, слизывал снег с крутых склонов и могучими руками пригибал к земле старые стойкие сосны, заставляя их тяжко вздыхать». Герман упивается этой суровой поэзией. В тени камня, на берегу этого бледного озера он любит в одиночестве прислушиваться к звучавшей здесь, как ему казалось, мелодии Шуберта — таинственному напеву, который напоминает тембром материнский голос.
Поздно вечером 19 января Герман внезапно проснулся: «Было половина десятого. Мы уже легли и только что погасили лампу… когда услышали внизу крики „пожар!“… Ужасный запах проник в дортуар, и почти сразу же стало совсем светло». Горело помещение, где хранились дрова, запасенные на зиму. Возбужденный запахом огня, пламенем, пробивающимся сквозь готические окна, Герман выбежал вместе со всеми смотреть на пожар: «Здания были в опасности, особенно когда ветер дул в сторону еще нетронутых пламенем построек. Мы понеслись в прачечную за ковшами для воды, наполнили их в эфорате, куда уже подбирался огонь, и стали поливать помост, охваченный искрящимся пламенем. На мне была только рубашка… и тапочки. Одну я потерял и продолжал бегать на одну ногу босой, пока не почувствовал боль от ледяной воды и не решил надеть сапоги. Своих я, конечно, не нашел, поэтому схватил еще чьи-то первые попавшиеся… Я видел через проем двери, как разрасталось пламя». В письме родителям юноша рассказывает, как горели деревья и солома, обваливалась крыша. В огне для него было что-то таинственное, колдовское и завораживающее. Ему казалось, что он с детства видит его отсвет. Еще в пять лет он опрокинул лампу с керосином и рассмеялся, когда пламя лизнуло шторы в отцовском кабинете. В Кальве его однажды застиг лесник, когда он зажег сухую траву, а 17 февраля 1891 года в Базеле он, задыхаясь, помогал тушить пожар у суконщика. Огонь принадлежит к его самым трепетным переживаниям: «В угасающем жаре пылающие золотом нити сплетались в сети, возникали буквы и картины, воспоминания о лицах, о животных, о растениях, о червях и змеях», — пишет он в «Демиане». Обожание огня! Эта фантасмагория его очаровывает, разжигает, возносит над повседневностью.
Пожар продолжался четыре часа. И вот наконец отпрыск Иоганнеса и Марии с покрытым сажей лбом и руками в занозах пьет вино у ректора и дарит потерпевшим свою куртку и пару панталон. Король Вюртемберга выслал в Маульбронн одну тысячу марок; учеников, отличившихся во время бедствия, наградили. Для Германа начался период эйфории — он сам будто превратился в горящее пламя, которое переливается, бросает жгучие искорки, тревожно потрескивает: «Я счастлив и доволен. В семинарии сейчас царит атмосфера, которая мне очень по душе». Он читает Шиллера, декламирует стихи, пытается писать критические произведения. В классе его прозвали офицером, и он торопится сообщить матери, что под этим именем «ему необходимо быть бдительным, следить за мелом, губкой и графинчиком со свежей водой». В оркестре семинарии он в ряду вторых скрипок.
Он собирает друзей и декламирует «Песнь о Нибелунгах», склоняется над древнееврейской грамматикой и погружен в видения, чередой проносящиеся перед его мысленным взором. «…Герои истории уже не были для него лишь именами, датами, нет, теперь они смотрели на него горящими глазами, стояли рядом с ним, у них были живые красные губы и у каждого свое лицо и руки: у одного грубые, натруженные, у другого — спокойные, холодные, каменно твердые…». «Одиссея», «подобно белой округлой руке русалки», несет «весть о давно погибшей, но совершенной по форме счастливой жизни». В древнееврейском тексте Библии живут «высохшие лики седовласых мудрецов рядом с красивыми юношами и волоокими девами…» в Новом Завете он узнает Иисуса «по великой блистающей глубине любящих глаз его, по тихо машущей, нет, скорее приглашающей и зовущей, такой красивой узкой загорелой руке». Герман чувствовал, будто «взгляд его проникает через всю толщу земли, словно сам Господь внезапно наделил его этой силой».
Экзальтация? Душевные переживания? Озарения? Мария волнуется. Она объясняет это чередование наслаждения и мучения, периодом возмужания. Ее сыну идет пятнадцатый год. Часто ничтожная мелочь может вдохновить его на причудливые видения: «…Стоит мне чутьчуть повернуть перо, как буква уже виляет хвостом, превращаясь в рыбу, вызывает в памяти все ручьи и реки мира, их прохладу и влагу, океан Гомера и воды, по которым шел апостол Петр, или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, вся надувается и, смеясь, улетает»41. У него легко рождаются каламбуры, и он спрашивает себя: «Нужно ли искать их источник в молчаливом прощании с детством или юношеской стеснительности?» в своих автобиографических заметках он напишет: «Мои проблемы начались в семинарии. Я выбрал свое ремесло в юности, уже тогда решил, что буду поэтом. Притом я понимал, что признания достичь трудно и ремесло это не приносит хлеба».