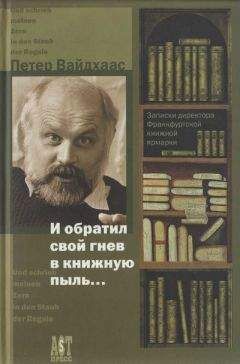Я купил цыпленка, чтобы попросить кого-то сварить бульон, и немного хлеба. Но стоило выйти из лавочки, как бесконечный туман, не отпускавший меня десять дней, снова навалился на меня, и я вынужден был сесть прямо на землю, чтобы не упасть.
Мне помог встать какой-то молодой человек, поднявший не только меня, но и цыпленка, выпавшего у меня из рук. И когда я жестами, а потом по-английски объяснил ему, чего хочу, он приветливо взял меня за локоть и, поддерживая, осторожно и медленно довел до дома своей матери, которая сварила мне восхитительный бульон.
Я пробыл в этом гостеприимном доме четыре дня, его заботливая мать сделала все, чтобы поставить меня на ноги. Здесь же я узнал, что из затеи добраться из Мерсина пароходом до Кипра и дальше до Израиля ничего не выйдет. В Турции началась «революция». Власть взяли военные и свергли правительство премьер-министра Мендереса, а все границы на замке. И тот, кто попытается покинуть страну, может надолго угодить в тюрьму.
Мои обеспокоенные хозяева, которые постепенно занервничали, что незаконно и без разрешения укрывают у себя иностранца, посоветовали поехать все же в Мерсин, сесть там на пароход в Измир или Стамбул, где было больше возможностей, чем здесь, покинуть страну.
Я так и сделал. Еще в тот же день я очутился в пароходном агентстве в мерсинском порту. Через два дня из Израиля должно было прибыть пассажирское судно «Мармара» и отбыть потом через Аланью, Анталью и Фетхие на Измир. Я купил на имя «Talebe» (Немец) за четырнадцать марок восемьдесят пфеннигов билет на нижнюю палубу и укрылся на два дня в маленьком пансионате, где только спал, набираясь сил.
Предстоящее морское путешествие сулило мне все то, о чем я мечтал, думая об Индии: романтическую отрешенность, встречи с людьми, фантастические миражи, необыкновенные пейзажи, горы, море…
Усилившаяся в эти дни способность глубокого эмоционального восприятия окружающего мира наверняка объяснялась моей физической слабостью и связанной с этим сверхчувствительностью. У меня была ясная голова, я воспринимал все происходящее вокруг чрезвычайно отчетливо — каждый удар волны о борт, любое покашливание мучающегося бессонницей пассажира, каждый крик чайки. И бег времени остановился. Стерлось одномерное чередование суток, сопровождающее нас, когда мы прокладываем наши пути по жизни. Все происходило одновременно, и так же одновременно мне удавалось все это воспринимать.
Судно встало на якорь в мерсинском порту, когда опустились вечерние сумерки. Я отыскал для себя защищенное от ветра местечко на передней палубе, пристроил там, насколько это было возможно, вещички и стал ждать, пока суета на палубе уляжется и большинство моих попутчиков — турецкие крестьяне с семьями — устроятся на ночлег. Тогда я встал, пробрался на цыпочках на середину корабля и вскарабкался по бортовой веревочной лестнице наверх, в солярий первого класса. Там я перенес шезлонг в защитную тень от трубы и стал любоваться ночью.
Под монотонное «тук-тук-тук» в машинном отделении «Мармара», переваливаясь с одного бока на другой, медленно прокладывала путь по морю. Почти круглая луна освещала серебристо-голубым светом контуры Тавра, мимо которого мы проплывали под тихое постукивание механизмов. Дул легкий ветерок и шевелил мои тогда еще густые волосы. Я был счастлив. Блаженно ловил мгновения. Небесное пространство надо мной все ширилось, оно было бесконечным. Чавканье морской воды, шлепавшей по днищу судна и бортам и бившейся вдали о скалы, как музыка, ласкало мой слух.
Музыка доносилась и из глубины судна. Из бара то взмывали, то опускались иногда гуттуральные, иногда визгливые, часто повторяющиеся пассажи типичных мелодий в ритме танца живота, их выводил женский голос в сопровождении турецких музыкальных инструментов.
Я слегка задремал в затаенном укрытии, а может, слишком погрузился в свои мысли, от которых очнулся, увидев неожиданно появившуюся у поручней певицу, пропевшую последние такты в ночную тишину моря, навстречу медленно проплывавшему мимо нас Тавру.
Силуэт мужчины с цветком в руке приблизился к неутомимой певице. Галантный кавалер склонился, как на оперной сцене, и протянул даме цветок. Но она даже не взяла его, а обрушила на мужчину словесный шквал, с каждым мгновением набиравший силу и темп и звучащий все громче и громче, а под конец, излив тоску, вырвала у него цветок и бросила за спину — прямо мне на колени.
Я боялся дышать, испытывая, однако, удовольствие при взгляде на отвергнутого любовника, который вскоре после этого исчез. А прекрасная певица — так я предположил в ночи — осталась одна и принялась горько рыдать.
Я был уверен, что все это сентиментальная комедия и сплошной театр, однако все же подумал, не встать ли и не обнять ли ее в утешение. И отнюдь не нелегальное пребывание на палубе первого класса удержало меня от этого шага, а исключительно боязнь, что мне достанется не меньше, чем предшественнику, а то еще и побольше. Так я и остался сидеть в своем укрытии со сладко пахнущей розой в руках. А когда дама перестала наконец плакать и скрылась внутри корабля, я подошел к поручням и, обрывая красные пахучие лепестки один за другим, дал им исчезнуть в морской пучине. Чувство упущенной любви повергло меня в глубокую печаль.
На следующий день солнце стояло уже высоко в небе, когда я проснулся в своем шезлонге. Голубоглазый и белокурый молодой человек стоял прислонившись к поручням и смотрел на меня.
— Что ты здесь делаешь, ты ведь с нижней палубы, да?
Так как на нем был темно-синий пиджак с золотыми пуговицами, я подумал, что он член команды, и стал отвечать ему заикаясь. Он засмеялся и позвал кого-то, кто находился на другом борту корабля. Он крикнул на каком-то языке, которого я никогда раньше не слыхал, но определенно не по-турецки. Появилось четверо или пятеро молодых людей и одна девушка — все чуть старше двадцати — и принялись меня с улыбкой разглядывать.
— Не бойся, мы тебя не продадим, — сказал опять блондин по-английски. — Ты уже завтракал?
Я отрицательно покачал головой, находясь в сильном смущении. Они позвали меня с собой. Я пошел за ними, полный сомнений.
— Мой друг! — сказал блондин стюарду. — Принесите ему мой завтрак!
Здесь за чашкой чая сидели еще несколько человек из их группы, углубившись в разговоры, в которые мой новоиспеченный «друг» время от времени вмешивался.
— На каком языке вы говорите? — отважился я наконец спросить.
Блондин повернулся ко мне:
— На иврите. Древнееврейском языке. Мы — израильские студенты, все — сабры. Ты знаешь, что такое сабр? — Ответа он дожидаться не стал. — Это колючие и сочные плоды одного из суккулентов, то есть мы — «кактусы». Так у нас в Израиле называют уроженцев страны, потому что они — колючие снаружи и нежные внутри!.. А ты, твой английский не британский, откуда ты родом?