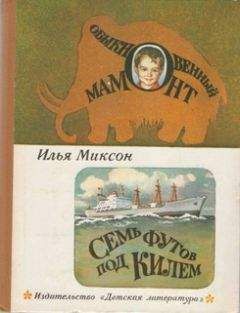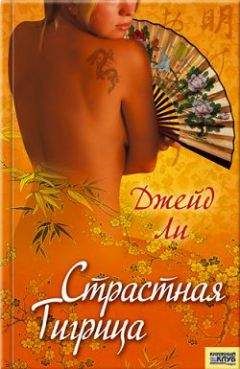Возможно, мне не хватало почтения, поскольку я помнил Синатру тридцатых, худощавого парнишку с цыплячьей шеей в окружении визгливых девчонок у входа на сцену в «Парамаунте», когда к нему пришел его первый сенсационный успех. К тому же мы были одного возраста.
Трудно понять почему, но желание написать пьесу подтачивало какое-то странное ощущение бесцельности. Не знаю, виновата в этом эпоха или мое собственное развитие, но стоило оглянуться, и казалось: все вокруг театр, а не вдохновляющая конкретная реальность. Практически все — пьесы, универмаги, рестораны, выставленные рядком ботинки, машины, парикмахерские — воспринималось как предмет анализа, как будто стало самоосознанной формой искусства и, как в искусстве, стиль был вещью, а не содержанием. В конце концов человек, идя в ресторан, не просто выбирает место, где бы сытно поесть, но хочет удовлетворить свои гурманские наклонности и получить хорошее обслуживание. Точно так же новые башмаки покупают исходя не только из их прочности или удобства, но следуя моде. То, что какая ни есть пьеса обязательно должна была затрагивать вопрос человеческой судьбы, казалось смехотворной самонадеянностью, что проявлялось в отношении вообще ко всем ценностям. Считалось, на театре установилась эпоха, когда главное лицо — режиссер, а драматург лишь его заместитель. Не с этим ли было связано, что важен не смысл сказанного, а то, как это представлено? Само существование драматурга было поставлено под сомнение, как будто со своими заранее запрограммированными речами и сюжетами, предполагавшими определенную логику построения, он был олицетворением теории предопределения. Один критик-авангардист ничтоже сумняшеся объявил, что намного труднее написать хороший отзыв, чем хорошую пьесу. Правду можно было обрести только спонтанно. Разум был врожденным лжецом, а слова — убедительными обманщиками. Жест, по предпочтению без слов, был последним пристанищем правды. Но даже здесь она была лишь предпосылкой для всевозможных интерпретаций, которых чем больше, тем лучше.
Как-то само собой утвердилось, что зритель смертельно устал, его внимание рассеянно и он отвлекается на что угодно, не желая смотреть на сцену. Насколько я понимаю, это не было чисто американским явлением, ибо в Европе тоже существовала проблема, как удержать зрителя в театре. Одно было ясно — никто больше не хотел слушать связный рассказ. Рассказ, насколько я понимаю, есть некая протяженность от прошлого к будущему, а в мерзости нашей жизни мы познали, что нет протяженности, когда все для всех оказалось возможным. Единственно более-менее постоянным оказалось извращение, а единственной искренней реакцией на него — саркастический смех, близкий к отвращению.
Как-то днем в середине шестидесятых я оказался в парижской студии Питера Брука и наблюдал, как его труппа, около двух дюжин актеров, играла перед целым классом глухонемых ребятишек. Актеры просто и строго выстроили несколько танцевальных па, у каждого в руках была палка, с помощью которой создавалось впечатление общения или его отсутствия, упорядоченности или хаоса, придумывались новые ситуации. Я смотрел с удовольствием, действия актеров вызывали ответное чувство, хотя, возможно, я ошибался. Потом перед актерами выступили сами ребята. Лишенные возможности слышать и говорить, они были обречены общаться только с помощью жестов и жить в ситуации, которую актеры выбрали условно. Они разыграли пантомиму, детективную историю с похищением ребенка, полицейским расследованием, обнаружением малышки и наказанием преступника. Во всем чувствовалась тревога, было начало, конец, вырисовывались отдельные характеры — полицейский все время отдавал честь, родители метались, колотя себя в грудь и вознося страстные мольбы о возвращении ребенка, сыскная собака обнюхивала все в поисках преступника, а похищенная девочка постоянно терла глаза, как будто плакала. Но больше всего поразило безудержное детское стремление объясниться, невзирая на немоту. Гипертрофированная пластика была связана с неспособностью говорить — казалось, их жесты наполнены чувством ровно настолько, насколько были бы наполнены их слова, обрети они дар речи.
Со стороны тех, кто обладал всеми органами чувств, казалось нелепым пытаться освободиться от части из них во имя приближения к подлинной полноте выражения. Этот пример доказал мне теоретическое бесплодие наших художнических устремлений, став своего рода признанием, что нет ничего хуже, чем произносить что-то ненужное. Таким образом, оставалось только разрабатывать и совершенствовать формы и стиль. Глухонемые не могли выразить себя, рассказав пережитое в виде истории. Те же, кто слышал и говорил, были не в состоянии воссоздать настроение, безыскусное искреннее переживание.
Наверное, театр опротивел мне, поскольку стал не чем иным, как омерзительным экзерсисом для эго, а я сейчас не выносил эгоизм, причем свой собственный не меньше, чем чужой. Когда-то я понял, что говорить правду — единственное, что может спасти, но теперь это казалось еще одной маской всеобщего одичания. Без сострадания нету правды, но без веры в человека, не говоря уж о Боге, сострадание такое же умозрительное решение, что и другие.
Завершив труд, кладешь его к стопам неизвестного божества, чье невидимое присутствие единственно оправдывает все усилия. «Не вопрошайте, что может сделать для вас страна, думайте, что вы можете сделать для своей родины», — произнес Кеннеди в тот бурный инаугурационный день, когда глубокий старик Роберт Фрост пытался спасти от ветра страницы его речи. Молодой президент точно определил, что нужно, ибо знал, что этого нет. Зачем писать?
По совету своей подруги Мэри Маккарти, к книге которой «Виды Венеции» она делала фотографии, Инга во время многочисленных наездов в Нью-Йорк останавливалась в старой гостинице «Челси» — из всех американских гостиниц эта была наиболее европейская. В те времена «Челси» еще не обрела ту известность, которую в середине шестидесятых ей принесли, проживая в ее номерах, знаменитые художники. Я поселился здесь отчасти из-за того, что владелец, мистер Бард, обещал сохранить место моего пребывания в тайне. Через несколько недель новость просочилась в местную и зарубежную прессу, но он с тем же честным и открытым выражением лица доказывал, что все произошло помимо его воли. На господина Барда было невозможно сердиться, ибо он был совершенно неспособен воспринимать чье-либо недовольство. Это был невысокий блондинистый венгр-беженец с чувством излишней самоуверенности и со слабым сердцем. Он мог днями пропадать на рыбалке у Кротонского водохранилища, увлеченно играя в карты со своими соотечественниками. В качестве ставок нередко шли отели, включая такие солидные, как «Нью-Йоркер». Однако «Челси» относилась к заветным обретениям Барда: «Люблю находиться среди артистов, среди творческих натур». Чтобы симпатизировать этому человеку, не обязательно было ему доверять, ибо он, как и его гостиница, был согласен на все, исключая, естественно, дефицит.