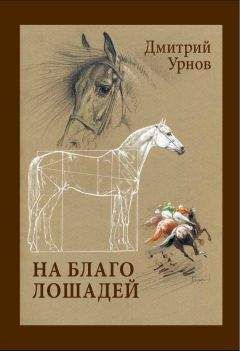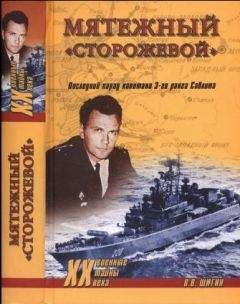Итак, начальник главка, советский высокопоставленный функционер, и его признание. Насколько понимал он в лошадях, еще раз скажу, не мне судить, но относился он к своему делу, на мой взгляд, не безразлично, не как могильщик. Не могильщик хотя бы потому, что поделился со мной опасением, как бы это дело не похоронить.
Однажды как переводчик, я помогал ему в общении с целой когортой директоров европейских ипподромов. Показывал он им нашу гордость – маточный табун все того же Первого завода. Вид, я вам скажу, был такой, будто доставили из Музея коневодства шедевры иппической живописи, и сошли с полотен Сверчкова, Самокиша и Петра Соколова запечатленные ими породистые кобылицы. К этому добавьте окружающее сияние, простор неба и размах луга, того самого, по которому, согласно Бабелю, ходили не только прекрасные лошади, но и не менее привлекательные женщины (писатель снимал дачу неподалеку, в деревне Малоденово, у соседа Бородулиных), соедините все вместе – и у вас в самом деле голова пойдет кругом. Гости оказались поистине, как теперь у нас говорится на чистом русском языке, впечатлены. Затем подошел автобус и увез их. Мы остались вдвоем среди немыслимой красоты. Нас разделяли положение и возраст, но, бывает, человеку надо хоть кому-то высказать, что лежит у него тяжелым камнем на душе. Только что восторгавшийся вместе с гостями видом чистопородных орловских кобыл начальник Главка коневодства посмотрел на меня и говорит: «Не знаю, что с ними делать, куда их девать». Имел он в виду, понятно, не племенное ядро маточного табуна, а молодежь, не имевшую сбыта при опущенном железном занавесе. А книга, написанная годившимся этому начальнику в сыновья экономистом, давала анализ только что постигшей нас катастрофы: в очередной раз наломали дров. Наломали, как автор говорил, потому что поддались уговорам «открыться миру», то есть, согласно автору, совершили экономическое самоубийство. А что надо было делать? Не позволять кучке кем-то подстрекаемых и поддерживаемых проходимцев распродавать страну на вынос. Держаться особняком. Так говорил современный патриотически настроенный и, видно, хорошо осведомленный специалист. Тут и вспомнился мне никем не подстрекаемый, облеченный властью и обремененный ответственностью, высокопоставленный собеседник, как он, растерянный, озадаченный, смотрит мне в глаза и говорит: «Не знаю, что с этими лошадьми делать, куда их девать». А вокруг – ожившие шедевры иппической живописи.
По коням!
Обращение к читателям нового века
«Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей все».
А. П. Чехов, «Тоска»
Породистая голова моего собеседника, казалось, касается кроны деревьев, орлиный профиль реет надо мной, а были мы примерно одного роста. Такова высота авторитета – на говорившего смотрел я снизу вверх. Ко мне обращался Владимир Оскарович Витт. Вы трепещете? Я трепетал. Если есть такое понятие, как фигура, то ведущий наш эксперт в конном деле был воплощением этого понятия: выразительная осанка, огромные знания, фундаментальные, с блеском написанные труды. Он, однако, вздыхал: «Не передать, до чего гложет меня печаль». Выдающийся специалист и прекрасный писатель сокрушался по поводу того, что не может написать книги вроде той, какую вы держите в руках. С моей стороны, само собой понятно, это не посягательство на сравнение, а лишь указание на жанр – беседы о лошадях. Написать, положим, было можно, и сделал бы он это лучше любого из нас, но кто опубликовал бы такую книгу? Сейчас, даже трудно представить себе подобную ситуацию, но в конце пятидесятых годов двадцатого века мне это было совсем нетрудно, и я попробую объяснить, что за препятствия не мог тогда преодолеть даже признанный авторитет и безупречный стилист.
Сила, противостоящая или способствующая нам, называется время, а время было такое – не до лошадей. Когда вышла моя книжка «По словам лошади», стали поступать читательские отклики, и среди них два письма оказались в этом смысле особенно красноречивы. Одно прислал человек пожилой, другое – молодой, и оба спрашивали: «Посоветуйте, что мне делать?». Пожилой, сибиряк, жаловался на судьбу: «Нет больше знаменитой породы бегунцов, а я о них знаю все. На что же теперь нужны мои знания? Как жить?». Другой корреспондент, девушка, жаловалась на собственного отца. «Мой отец, – писала она, – главный инженер большого завода, и когда я ему сказала, что хочу заниматься конным спортом, он мне запретил. Не могу я позволить, говорит, чтобы моя дочь возилась с какими-то там лошадьми. Отец прав?» Кто сочтет, что ответить на подобные вопросы проще простого, пусть подождет и придется ему от людей середины двадцать первого века услышать, что вопросы, волнующие всех сейчас, в начале нового столетия, гроша ломаного не стоят.
В наши дни по поводу всякой, не осуществившейся в свое время, идеи приходится слышать «Запрещали». Спора нет, запрещали, да еще как! Лошади не были запрещены, однако находились под подозрением словно нечто отживающее. Зачем извели сибирских бегунцов? За ненадобностью в народном хозяйстве, и некуда стало знатоку приложить свои знания. Тот важный папаша, что не позволял дочери сесть в седло, руководствовался соображениями, в том числе, несомненно, и политическими: верховая езда – спорт старорежимный! Или, скажем, у нас в конноспортивной школе «Пищевик» в один прекрасный день, следуя высокой директиве, переименовали лошадей, носивших иностранные клички: вороной Дарлинг стал Дорогим, а рыжая Ажитация – Анапой: иначе нельзя – непатриотично. Не говоря уже о том, что слова «Господь Бог», как и название классического приза Дерби, не позволяли писать с большой буквы. «Низ-з-зя» произносилось по любому поводу, и поводы, вроде переименования лошадей из патриотических соображений, кажутся выдумкой. «Уберите лампочку!» – потребовали в редакции, где шел очерк об индейцах и ковбоях. Индейцев я увидел существующими в знакомой нам мерзости запустения, а перегоревшей лампочкой уже на нашей конюшне намекал, что и у нас не все в ажуре, но редакция проявила бдительность. «У нас, – сказали, – негодной лампочки быть не должно».
Случаем, по абсурдности едва ли не самым невероятным в моей авторской практике, был такой: повесть «Похищение белого коня» подверглась цензуре специальной. Вызвали меня в Министерство внутренних дел и вежливо, однако настойчиво, попросили снять полстраницы (вместе с неугодной лампочкой теперь восстановленные). Это было описание протокольной процедуры в милиции. Списал я процедуру с натуры, не вполне даже отдавая себе отчет в том, что́ копирую. Поэтому, как только меня попросили полстраницы убрать, я решил, что наделал ошибок. «Это неверно?» – спрашиваю. Следует ответ еще вежливее: «Снять мы вас просим именно потому, что верно». Оказалось, как тот поэт у Чапека, сам того не желая, запечатлел я нарушение правил допроса, чего замечать и не следовало. То был бред исторический (по Герцену), а исторического бреда бывает предостаточно в любые времена: поживете – увидите!