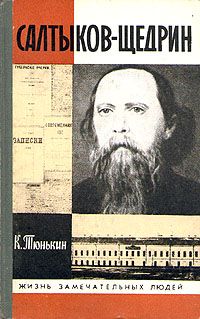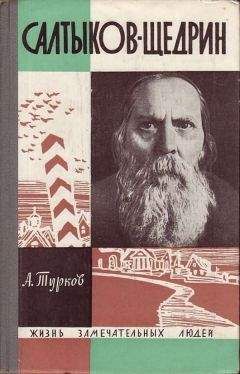Но публикация «Мелочей» все же продолжалась, хотя Салтыкову пришлось «сломать» свой замысел цикла «фельетонов» для газеты числом около двадцати. Написано им было уже пять таких фельетонов публицистическо-лирического характера: они и были целиком напечатаны вскоре в «Вестнике Европы» (№ 11).
Еще в августе страшного 1884 года Салтыков писал Михайловскому: «...чем больше я думаю о предстоящей литературной деятельности, тем более сомневаюсь в ее возможности. Собственно говоря, ведь писать не об чем. Легко сказать: пишите бытовые вещи, но трудно переломить свою природу». По первым пяти главкам «Мелочей жизни» видно, что Салтыков вовсе не стал свою природу переламывать. Он нашел ей, если можно так сказать, новое употребление. Он понял, что ему «надо новую жилу найти».
Цикл «Пестрые письма», при всей значительности своего содержания, возводился, в сущности, на развалинах неосуществленных замыслов, в какой-то части — из их обломков.
Два с половиною года шел Салтыков к тому, чтобы открыть новую художественную жилу, из которой хлынул новый, чистый и свежий поток творчества (вспомним, что в русском языке слово «жила» означает еще и родник). В «Мелочах жизни» ему удалось создать новый, особый сплав острой публицистической манеры, характерной для таких высших достижений его сатиры, как «Современная идиллия», с глубиной и совершенством социально-психологического реализма «Господ Головлевых». Это была в самом деле «новая жила».
Очерки и рассказы «Мелочей жизни» печатались параллельно в журнале «Вестник Европы» и газете «Русские ведомости», в окончательном замысле Салтыкова составляя тем не менее целое, единое произведение. Он уже видел его именно таким, хотя первоначальный замысел газетных «фельетонов» пришлось разрушить. Ну что ж, пусть эти пять «фельетонов» станут своего рода публицистическим «Введением», а художественные рассказы о судьбах «калечимых людей» целостной картиной общества, изнывающего и корчащегося в муках под игом терзающих мелочей. «В целом составится довольно большая книжка... — писал он в октябре 1886 года Белоголовому, — не лишенная смысла. Только в последней, заключительной статье раскроется истинный смысл работы. Вообще, я к журнальной работе отношусь теперь несколько иначе. К ней (а в особенности к газетной) всего менее применима поговорка scripta manent <написанное остается>, и тот, кто не читал меня в книжке, очень мало меня знает».
Салтыков, конечно, стремится к тому, чтобы написанное им осталось, имело бы смысл не преходяще-злободневный, а общеисторический. От весьма разнообразных по своим художественным приемам зарисовок «пестрой» русской жизни пореформенного времени, в особенности бессмысленно-жестокого времени после убийства Александра II («Пестрые письма»), Салтыков восходит к разностороннему художественно-публицистическому анализу глубинных исторических процессов, определявших в восьмидесятые годы общественное развитие и общественное состояние не только России, но и Западной Европы («Мелочи жизни»).
Салтыков читал в январе 1884 года в катковских «Московских ведомостях»: «Затишье... водворилось у нас после бурных веяний». Но именно общественное «затишье», мертвая тишина мелочной «пестрой» эпохи и угнетало его больше всего.
«Мелочи жизни» — самое трагическое произведение Салтыкова, потому что на исходе жизни, ему довелось стать свидетелем страшной, мучительно безнадежной, трагической ситуации, когда современникам казалось, что «история прекратила течение свое» и историческое творчество иссякло, когда крестьянская масса безмолвствует — лишь Ванька Бессчастный в кабаке на гармонике наяривает; когда интеллигенция подвергается травле Скомороховых и оказывается беззащитной перед лицом нахально шествующего «чумазого» (а ведь Салтыков верил именно в свободный и творческий разум интеллигенции); когда мрак окутал будущее и идеалы исчерпали себя: «в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв», «прекратилось русловое течение жизни». Все погрузилось в мутную и бездонную, как вятская «чаруса», тину мелочей.
Салтыков хорошо помнил великие слова Гоголя из «Мертвых душ» о горьком уделе писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога...». И Гоголь, гениальный Гоголь дерзнул на это! Но почему же это мертвое болото мелочей все теснит и теснит живое поле жизни? Почему сами мелочи становятся все более терзающими, язвящими, просто убивающими? Салтыков, глубоко верующий в силу разума, в силу человеческого сознания, отвечает так: «Общее настроение общества и масс — вот главное, что меня занимает, и это главное свидетельствует вполне убедительно, что мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права и не научится различать терзающие мелочи от баттенберговских».
Начав в первых главках «Введения» с перечисления «мелочей», опутавших жизнь современного человека, составляющих единственное и исчерпывающее ее содержание, мелочей, в сущности, «управляющих миром», Салтыков переходит к обобщениям, которые позволяют уяснить важнейший для него общий, философско-исторический смысл самого понятия «мелочи». Ему представляется, что «мелочи» могут быть разделены на две главные группы — мелочи «постыдные», «баттенберговские», и мелочи «горькие», «терзающие», угнетающие народные массы.
Нечистоплотная политическая игра вокруг принца Баттенберга (его то «привозят», то «увозят» из его «болгарского» отечества), в которой участвовал «концерт» держав во главе с бисмарковской Германией, символизировала для Салтыкова пустоту и мелочность европейской политической жизни, не называемой им иначе, как «политиканство». Эти «постыдные» мелочи угнетают жизнь, создают неустойчивую атмосферу «испуга», в которой всякий авантюрист (Баттенберг, Наполеон III, Орлеан, Бисмарк) «овладевает человечеством без труда». Никакие «новшества» в этой сфере не меняют сложившегося паскудного порядка вещей и означают лишь «перемещение центра власти».
Шумные деяния «концертантов» (встречи, переговоры, обеды министров и принцев), «баттенберговы проказы» мешают увидеть мелочи «горькие», «терзающие», то есть те, которыми опутана и остановлена, оглушена жизнь народная. Именно эти, «горькие», «терзающие мелочи» приносят безысходный калечащий трагизм в существование «среднего человека», будь то слабый духом интеллигент, мучительно отказывающийся от дорогих убеждений, будь то мужик, освободившийся от помещика, но попавший в кабалу к «чумазому», будь то честный молодой человек, мечтающий прожить жизнь в добре и правде... Всем им предстоит фатальное калеченье в условиях мелочного «порядка вещей».