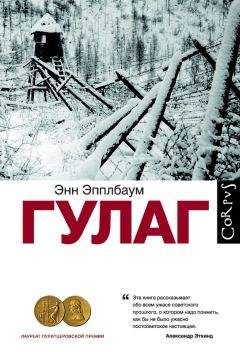Разрабатывались разные способы конспирации. Вот как бывшая политзаключенная описывает один из них:
На узенькой (четыре сантиметра) полоске папиросной бумаги муравьиными буквами я записываю свои последние стихи. Это один из способов передачи информации на свободу; полоски эти мы сворачиваем в компактный пакет размером меньше мизинца и при удобном случае передаем крошечную, наглухо загерметизированную от влаги по нашей специальной технологии вещичку[1868].
Как бы ни передавались в “Хронику” сведения из лагерей – с помощью конспирации, взяток, лести, – эта информация не утратила значения по сей день. Сейчас, когда я пишу эту книгу, большая часть документов МВД и КГБ, относящихся к послесталинскому периоду, остается закрытой для исследователей. Однако благодаря “Хронике” и другим публикациям самиздата и правозащитных органов, а также благодаря многим мемуарам, где описаны лагеря 1960‑1980‑х годов, можно тем не менее получить связную картину жизни в советских лагерях после Сталина.
“…Сегодняшние советские лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские. Кое в чем лучше. А кое в чем хуже”.
Это написал в начале своих воспоминаний о годах заключения Анатолий Марченко. Его записки, которые циркулировали в Москве с конца 1960‑х, шокировали московскую интеллигенцию, считавшую, что лагеря, какими они были, ушли в прошлое.
Марченко происходил из рабочей семьи (и отец, и мать были неграмотны) и первый срок получил за хулиганство. Второй раз его судили за измену: он пытался бежать в Иран. Срок отбывал в Мордовии, в Дубравлаге – в одном из двух печально знаменитых политических лагерей строгого режима.
Многие подробности испытанного Марченко были знакомы тем, кто слышал рассказы о с талинских лагерях. Подобно его предшественникам, Марченко ехал в лагерь в “столыпине”. Подобно предшественникам, в пересыльной тюрьме он получил на дорогу “буханку черного хлеба, граммов 50 сахару и одну селедку”. Этого должно было хватить до следующей “пересылки”. Подобно предшественникам, он обнаружил, что утоление жажды зависит от конвоира: “Если подобрее, так раз или два принесет, а надоело ему бегать с чайником – хоть умирай от жажды”[1869].
В лагере Марченко испытывал такой же, как его предшественники, постоянный голод. Его дневной рацион содержал 2400 калорий: 700 г хлеба, 450 г капусты и картошки (часто гнилых), 80 г трески (часто испорченной), 50 г мяса, 30 г крупы или лапши, 20 г жиров, 15 г сахара. При этом сторожевой овчарке полагалось 450 г мяса. Как и в прошлом, заключенным доставалось не все, что было положено по нормам питания, и возможностей купить что-либо дополнительно было мало. “За шесть лет тюрьмы и лагеря я дважды ел хлеб с маслом – привозили на свидание. Съел два огурца: в 1964 году один огурец, а еще один – в 1966-м. Ни разу не ел красного помидора, ни разу яблока. Это все запрещено”[1870].
Выполнение трудовой нормы по-прежнему имело значение, но характер работы изменился. Марченко работал грузчиком и столяром. Леонид Ситко, который тоже был в то время в Дубравлаге, занимался изготовлением мебели. Заключенные мордовских женских лагерей работали на фабриках – часто на швейных машинах[1871]. В другом лагере для политических, находившемся близ Перми, работали опять-таки с древесиной. В одиночных камерах, куда часто стали сажать к 1980‑м годам, шили рукавицы и арестантскую одежду[1872].
Со временем Марченко обнаружил, что условия жизни ухудшаются. В середине 1960‑х годов в лагерях было три режима – облегченный, общий и строгий. Соответственно, как минимум три категории заключенных. Очень скоро заключенным строгого режима (в их число входили все политические) снова запретили носить свою одежду и стали выдавать черные бумажные куртки. Хотя письма и бандероли с книгами, журналами, газетами (только советскими) можно было получать без ограничений, отправлять письма разрешалось два раза в месяц. На строгом режиме заключенный не мог получать с воли продукты и сигареты.
Марченко пришлось отбывать срок и по уголовной, и по политической статье, и его описания блатного мира звучат знакомо. По сравнению со сталинским периодом уголовная субкультура стала еще грубее и подлее. После войны между ворами и суками конца 1940‑х преступники разделились на большее число категорий. Евгений Федоров, бывший заключенный, получивший первый срок в 1967 году за грабеж, называет несколько “мастей”: не только “воры” и “суки”, но и “свояки” (начинающие воры) и “красные шапочки” (“воры-одиночки”) – возможно, “духовные” преемники послевоенных “красных шапочек”. Заключенные-“земляки” объединялись в “семьи” для самозащиты и прочего. “Семья”, по словам Федорова, решала, кого послать на убийство: “Допустим, попадает так, что у Рашида срок 12 лет, ну что ему добавят? – трешку. Рашид берет нож и идет убивает”.
Жестокая “культура” гомосексуального насилия и господства, о которой говорилось и в некоторых более ранних описаниях тюрем и колоний для несовершеннолетних, тоже играла теперь гораздо большую роль в жизни уголовников. Неписаными правилами они подразделялись на две группы – тех, кто “шел за женщину”, и тех, кто исполнял роль мужчин. “Первых все презирали, вторые ходили в героях, хвастаясь своей мужской силой и своими «победами» не только друг перед другом, но даже и перед начальством”, – пишет Марченко[1873]. Начальство учитывало гомосексуальный фактор: в любой тюрьме, по словам Федорова, “есть камера, где педерасты, вся нечисть сидит”. Попасть в нее мог, в принципе, кто угодно: “Ну, проигрался в карты, и ты должен вместо женщины…” В женских лагерях столь же широко было распространено лесбиянство, и порой оно было не менее свирепым. И. Ратушинская вспоминала, как одна заключенная отказалась пойти на свидание к приехавшему мужу и двухлетнему сыну. У нее была лагерная возлюбленная, и она смертельно боялась сцены ревности[1874].
В 1960‑е годы в советских тюрьмах и лагерях вспыхнул туберкулез – это бедствие продолжается и сегодня. Федоров описывает положение так: “Если в бараке спят восемьдесят человек, из них человек пятнадцать тубиков. Их никто не лечил, там таблетки все были одинаковые, от головы, от ноги. Врачи там были как эсэсовцы, она с тобой не разговаривает, вообще не смотрит, ты никто”.
В довершение всего многие заключенные пристрастились к чифирю – чрезвычайно крепкому чаю, производящему наркотический эффект. Другие разными сложными способами добывали алкоголь. Те, кому разрешали работать вне лагеря, ухитрялись незаметно проносить спирт в зону: