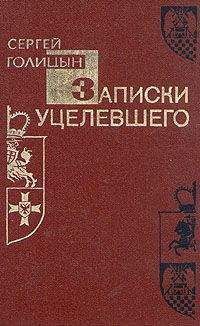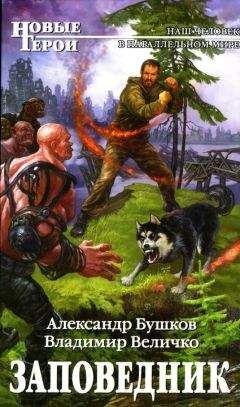Дядя Альда служил в Литературном музее у Бонч-Бруевича, разбирал разные архивы. Однажды Владимир Дмитриевич вызвал его и сказал ему:
— Знаете ли вы, что приходитесь родственником Лермонтову?
— Знаю, — ответил дядя Альда, — моя мать — его троюродная сестра через Столыпиных.
— Так что же вы до сих пор молчали! — воскликнул Бонч. Он выхлопотал моему дядюшке Лермонтовскую пенсию — 600 рублей, благодаря которой уже во время войны он получил в Москве комнату, а пенсию получал до самой своей смерти в 1963 году.
В годы молодости нередко кутивший по московским ресторанам, он приходил в Дмитрове к нам и под гитару вместе с Еленой — женой брата Владимира — пел старинные цыганские романсы.
А тут, познакомившись с Клавдией, и он и тетя Катя начали горячо убеждать моих родителей, что девушка им понравилась, нечего на нее коситься, а с доверием принять ее в семью как будущую сноху и полюбить ее.
Помню один рассказ дяди Альды из его архивных поисков. Где-то он раскопал копию обращения матери писателя А. Н. Толстого на царское имя: она просит присвоить ее малолетнему сыну фамилию и титул своего мужа, с которым не жила много лет. Выходило, что классик советской литературы вовсе не третий Толстой.
Дядя показал этот документ Бончу. Тот ахнул и сказал:
— Спрячьте бумагу и никому о ней не говорите, это государственная тайна…
Расскажу о двух событиях, которые произошли в нашей семье в ту зиму, одно из них раньше, другое позднее, которое раньше — не помню.
Сестра Маша, продолжая работать в Московском геологическом комитете, ночевала в Москве, постоянно ходила то с одним, то с другим «парашютистом» в театры или на концерты, словом, жизнь вела довольно-таки беззаботную.
Ее вызвали в ГПУ, спросили о профессорах-геологах, о чем они разговаривают между собой. Маша никаких порочащих сведений о почтенных ученых не дала да и не могла дать. Они — профессора, авторы многих научных трудов, а она — мелкая сошка. Ее вызвали второй раз, предложили следить за ними, записывать их слова. Маша отказывалась, ей грозили арестом.
Она приехала в Дмитров советоваться с нами. Что делать? Подавать заявление на увольнение? Но этот шаг вызовет еще большие подозрения. А тут арестовали одного из профессоров. Было ясно: ГПУ собирается закрутить дело о вредительстве в Геологическом комитете.
Однажды в Дмитров поздно вечером приехала Верочка Никольская — подруга и сослуживица Маши — с известием, что Маша арестована, арестовали также шесть профессоров и секретаршу академика Вернадского Анну Дмитриевну Шаховскую.
Вот как, по рассказу Верочки, произошел арест Маши. Накануне после работы Маша передала Верочке свой номерок — жестяную бляшку, ей необходимо было с утра переменить в банке на торгсиновские боны очередной долларовый перевод. Верочка ей обещала потихоньку номерок перевесить.
В их учреждении служила зав. секретным отделом некая тетя, она постоянно шныряла по коридорам, заговаривала то с тем, то с другим, ее боялись панически и прозвали Ведьмой.
Утром Ведьма влетела в комнату явно взволнованная и рявкнула:
— Где Голицына?
Ей ответили незнанием. Верочка сразу поняла, зачем Маша понадобилась Ведьме, и вышла в коридор наблюдать. Она видела, как Ведьма летала в уборную, в буфет, в библиотеку, в подвал, где хранились геологические образцы. Она явно охотилась за Машей. Верочка спустилась в вестибюль. Там стояли двое мрачных незнакомцев. Ведьма к ним подбежала, те в нетерпении набросились на нее. Ведьма опять побежала по всем комнатам. Она же видела: номерочек перевешен, значит, эта бестия-княжна здесь. Ведьма, засадившая шесть профессоров, не могла додуматься, что номерок перевесила подруга. А за такое тогда могли и Маше и Верочке дать по три года.
И тут с улицы появилась Маша. Издали она увидела Верочку, улыбнулась ей. Верочка было бросилась к ней, хотела предупредить, но Ведьма опередила, вцепилась в Машину руку и передала ее тем двум незнакомцам. Верочка выскочила на улицу и увидела, как Машу увозили на легковой машине.
Впоследствии Анна Дмитриевна Шаховская, сидевшая с конвоиром в той машине, рассказывала, как Маша с очаровательной улыбкой вскочила в машину.
— Точно на бал ехала, — говорила Анна Дмитриевна.
Верочка переночевала у нас, на следующее утро уехала.
— Что же, надо начинать хлопоты, — решили мои родители, услышав рассказ Верочки.
Отец написал очередное убедительное письмо Пешковой, и моя мать поехала в Москву.
Хлопоты повелись по двум направлениям: Пешкова хлопотала и за Машу, и за Анну Дмитриевну, а Вернадский писал письма вождям также об обеих девушках. В ГПУ, кажется, поняли, что зря пристегнули двух княжон к делу профессоров-геологов, и их освободили.
Маша рассазывала, с кем сидела: какая яркая личность была проститутка, обслуживавшая иностранцев, какая умница была ученая-агроном Безобразова О. Н. из тверских дворян. Уже освобожденная, она впоследствии поступила на Канал и дружила с Машей до самой своей смерти в 60-х годах.
Торгсиновскую бону — крошечный цветной листок — Маша скрутила в тончайшую трубочку и спрятала в складке пальто, при обыске ее не обнаружили.
Маша рассказывала, как на допросах ей все подсовывали бумагу с обвинениями профессоров, грозили лагерями. Она ничего не подписала. Никаких вопросов о Владимире, обо мне, о других родных и знакомых ей не задавали. Всего она просидела на Лубянке три недели, Анна Дмитриевна — две недели…
А профессора под нажимом следователей признались во вредительстве и получили разные сроки. Двое попали на Канал, профессор Соколов стал заместителем начальника геологического отдела, профессор Добров консультантом отдела…
Владимир, хоть и с больной коленкой, продолжал ездить в Москву за очередной работой. Он старался ночевать в разных местах, чтобы не слишком злоупотреблять гостеприимством знакомых.
Как-то вернулся он в Дмитров после ночевки у писателя Леонида Леонова. Тот рассказывал, что впервые на каком-то торжественном приеме увидел Сталина, просидевшего весь вечер молча. Великий вождь, что особенно поразило Леонова, совсем не был похож на свои фотографии. Он коротышка, лицо его сплошь изрыто оспинами, а лоб низкий и покатый, как у неандертальца. Словом, ретушеры постарались!
И еще Леонов рассказывал, что недавно приехал из крымского санатория; ехал он через всю Украину, смотрел в окно вагона и нигде не заметил никаких следов голода.
— Это все классовые враги и клеветники выдумывают, — говорил он.